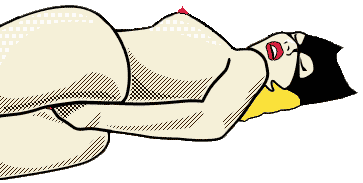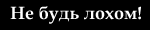Почтальонша. Часть первая Мать привезла меня в счастьем забытый поселок, называемый местными остряками Болотом, в хмурое лето моего шестилетия. Очень примечательное название учитывая, что за исключением въезда, пространство сего поселения было окружено лесами и топями. Да и сама засасывающая трясина жизни здесь располагала к такому определению. Было у поселка городского типа и официальное название не отражающее ни бурной жизни, ни сонной работы пестрого люда – Торфопредприятие. Торфоразработки здесь давно не велись, поэтому Москва, для которой добывался торф ранее, старалась отпихнуть поселок Подмосковному городу на территории, которого он находился, но и городу поселок не был нужен. Действовали еще какие-то Картонажки, Деревяшки, служащие, как поговаривали, для стратегических секретных целей, но, я понимаю сейчас, все это было самоутешением, и затянутое начало конца робко проглядывало сквозь замшелую пелену тягомотного быта. Болото, не отставая от страны, в которой выросло мое пионерское поколение, но очумело взрослело уже вне ее, прекратит свое существование почти одновременно с ней. Первый год моей жизни на Болоте я отбывала в детском саду. Разглядывание гениталий моего соседа по койке в тихий час, кровопролитные бои за самокат с местным дурачком после оного, плохо скрашивали мою тоску по прежней привычной городской жизни. Мне было бы совсем гнило, если бы не Валентина Владимировна, моя громогласная, вспыльчивая, но отходчивая, воспитательница, возведшая меня в ранг любимицы. Я схватывала на лету все ее объяснения, я умничала на занятиях с чисто детской непосредственностью, я была звездой ее утренников, и она никогда не гнала меня на площадку во время прогулок, а благосклонно позволяла играть на крыльце, а иногда просто сажала к себе на колени. Из подробных обсуждений Валентины Владимировны с визави насущных проблем односельчан, вносящих дольку остроты в мое миропознание, я вынесла, что благополучных семей в поселке – раз-два и обчелся, и относились к ним обделенные счастьем с угрюмой недоброжелательностью. В основной массе семей самым легким горюшком были пьяницы, кому повезло меньше, у того буйные, громившие тела домочадцев и домашнюю обстановку. У других же были тихие, незлобные алкоголики, испытывавшие на себе гнев супруги и кулаки подрастающих сыновей, которые сами не гнушались утянуть у родителей самогонки. Следующие две напасти поселка, часто были производными от первой, хотя случались исключения. За лето в местном карьере утопало не меньше пяти человек, бывали в их числе и приезжие, и совсем необязательно пьющие. Многих не находили по причине сильных подводных течений, так что родственникам и хоронить-то было порой некого. И завершали скорбный список висельники. Этих снимали с потолочных балок сараев, реже с кухонных крюков. Синие пятки одного такого самоубийцы, выглядывающие из-за двери сарая, я увидела полгода спустя после приезда, и они до сих пор мне снятся. Они не напугали меня, а просто врезались в мою детскую дотошную память. Позднее во времена моей постболотской жизни, по доходившим до меня обрывочным слухам, я поняла, что падкий на несчастья поселок постигла еще одна повальная беда. Те мальчики, которые тянули из дома самогон и распивали его в кругу бравых друзей и на все согласных подруг, почти поголовно сели. Заключения они отбывали в разное время, по разным причинам, но как правило неоднократно. Ребята, с которыми я рвала на заборах штаны, воровала яблоки у соседей на заре моего пребывания в поселке, ребята, которых я потом презирала, и ни в одного не влюбилась ( могло ли быть что-нибудь естественнее в средней школе – отдать себя первому омуту гормонального взрыва?), ребята, считавшие себя крутыми, всемогущими, возвращались нездоровыми согбенными полустариками, с дырявыми от туберкулеза легкими. Отмаявшись год в дошкольном образовательном учреждении я разбиралась во всех перепитиях сельской жизни, обзавелась единственной подругой, с которой распрощалась пять лет спустя, когда ее тело начало созревать раньше моего. Она уже с гордостью носила нулевый лифчик, расстегиваемый ударом по спине, старшеклассниками, прячущими свое нерегулируемое лидибо за грубостью, ее низкую посадку украшала довольно развесистая задница, и кроме, как о парнях она ни о чем уже больше думать не могла. Я же продолжала оставаться тощей нескладушкой, влюбленной в книги, а не мальчишек. И мою жизнь еще светлых три года не марали женские всем известные проблемы, но о которых, во времена отсутствия секса, принято было говорить загадочным шепотом. Хотя чего там! Наша дружба пережила бы и мою незрелость и Риткину скороспелость. Пережила бы... И не разность в физиологии уничтожила нашу дружбу, а событие, о котором речь впереди... В первом классе я органически возненавидела свою первую учительницу Елену Ивановну. Эта молодящаяся пенсионерка не разглядела, в отличие от моей шумной, по-женски мудрой воспитательницы, ни моей врожденной любознательности, ни моего цепкого, жадного до знаний ума. По каким-то, ей одной ведомым критериям, она определила меня в разряд середнячков и лепила мне одни тройки. Ненависть моя возросла, когда я в средней школе начала перебиваться с пятерок на четверки. Думаю, что я была бы круглой отличницей, если бы мне не было лень, учить с моей точки зрения бесполезные вещи, да и в октябрятские годы мои, я благодаря первой своей учительнице привыкла обходиться без помощи школьных наставников в выборе книг и других источников знаний. Фавориткой же нашего малочисленного класса была – кто бы мог подумать?! - внучка Елены Ивановны – дылда с лошадинным лицом (бабушкино наследство) и прокуренным басом. Я ненавидела ее почти так же сильно, как и ее бабку, но через двадцать пять лет, встретив ее случайно, пожалела так сильно, что забыла свою детскую ненависть. Она вкалывала за гроши в полупрестижной школе, тянула одна дочку и была до тошноты похожа на свою прародительницу. Но в те годы, все мое растущее существо протестовало против этой семейки, и я была несказанно рада, накатившему изумительному, прекрасному, румяному лету, покончившему с моей каторгой, хотя бы на время. Но в первые три лета школьных каникул ничего примечательного в моей жизни не происходило. Мама отправляла меня в лагеря пионерского отдыха, или к бабушкам. Ее мамку я любила, несмотря на то, что баба Клава была строга, она все-таки баловала меня. А вот папкина мамаша, ненавидевшая мою мамку за то, что та выставила из наших жизней ее инертного сыночка, была старой нудной сквалыгой. Господи простит меня, нельзя о покойниках плохо, но эта стерва столько повыпила из меня крови, что к переходу из начальной школы в среднюю я поставила маме ультиматум, что если она меня еще раз отправит к этой дуре, я убегу из дома, ибо свекровка мамина так боялась, что я пойду в ее непутевую невестку, что дрессировала меня с утра до вечера. Да и, лагерях тоже была муштра еще та, поэтому наряду с бабкой Верой, я и лагеря включила в черный список, заявив маме, что буду проводить лето дома, ну и выезжать иногда в бабе Клаве. Мамка возражать не стала - к десяти годам я была вполне самостоятельным ребенком. Софа, моя родительница, никак не тянущая на свои двадцать восемь, женщина, татарской красоты средней тяжести, имела высокие скулы, раскосые карие глаза, полные увесистые губы. Роста среднего, но стройна, не очень грудастая, зато бедра ее были необычайно круты, отчего нижняя часть ее туловища выигрывала перед верхней. Работала она в городской больнице, была медсестрой до мозга костей, никогда не отказывалась от сверхурочных, и дежурства свои двенадцатичасовые, каждые два дня, часто продлевала. Редкие выходные свои она проводила, приглашая в наш дом шумных гостей. Почти никогда одного, или двух, в основном целыми семьями. В эти дни я объедалась всякими вкусностями, слушала непристойные подробности семейных жизней, и заучивала наизусть репертуар матерных частушек. Потом мамка брала гитару и все вокруг замирали. Она никогда, нигде не училась музыке, а освоила гитару в общежитии во время своей учебы. Но если кому бог и дал музыкальный талант, так это Софе. Я завидовала ей, и понимала, что мне никогда так не запеть. И когда, однажды, мама услышала, как я пою в тихом уединении нашего запущенного сада, она очень ласково потрепала меня по голове, и так как делала она это крайне редко, я напряглась, и была права, ибо услышала: - Вот так и пой, детка, чтобы тебя никто не слышал. Но я все-таки отрывалась на детсадовских и школьных праздниках, ведь в нестройной череде детских голосов, мой не выглядел так ужасно, как если бы я пела соло. Мама никогда не ходила на мои утренники, так что ее тонкая музыкально-душевная организация не страдала. Все же заботы о моем воспитании, Софа окончательно возложила на меня саму, и я ей очень за это благодарна. Уезжала моя родительница на дежурство с первым автобусом, а возвращалась с последним. Я просыпалась и валялась полдня у телевизора. Помню какими трогательными были эти черно-белые уродцы. И названия были нежными « Славутич», «ТБ – 235». Наш назывался очень душевно «Электрон – 123», у него были круглые блестящие регуляторы громкости и контрастности, мощный переключатель программ, замененный со временем пассатижами, продолговатые динамики с обоих боков, через один из которых я отправила благодарственное письмо за самоотверженный труд ведущей «В гостях у сказки» Валентине Леонтьевой. Появление ее интеллигентного доброго лица с породистой бородавкой на носу плохоскрываемой очками, с нетерпением ждала ребятня всей необъятной Родины моей, Родины, которую я помню, но вернуться в которую не могу, в которой под Новый год скончался утомленный, может быть моим постоянным перещелкиванием программ, телек «Электрон -123», и через день мамка притащила в дом с очередным своим пассием огромного цветного полупроводникового чужака, не попытавшись реанимировать старого преданного моего многолампового дружка. Впрочем, я скакала, как заведенная вокруг новоявленного величественного красавца, в томительном ожидании, пока он очухается с мороза. Но в то лето старечок мой был еще целехонек, и я, насмотревшись всякой муры, уяснив международную обстановку, и очередное постановление очередного Пленума единственной нашей Партии, с туго меняющимся, непроизвольно заученным мной ЦК, отзавтракав сгущенкой, хватала со стола 20 копеек оставленные мамкой на мороженное, хватала велик и раскатывала по окрестностям до темноты. Реже с девчонками убегала купаться. И уже совсем редко с мальчишками обворовывать частные садово-огородные участки. Вернувшись домой, я обедала и ужинала сразу всем, что отыскивалось в холодильнике. И заваливалась на диван с книгой, так и засыпала, уйдя с головой в подробности вымышленных и не очень жизней, и в постель меня уже укладывала мама, вернувшаяся с работы. В один знойный июльский день я пролетала на своем железном друге через площадь, которая была одновременно автобусной остановкой, деловым и досуговым центром поселка. Контора, вмещавшая все местное начальство, а стало быть знать Болота располагалась на краю площади, рядом с ней, ближе к центру стояла почта, на расстоянии нескольких шагов была остановка, за которой пряталась библиотека - очень посещаемое заведение. Я таскала оттуда книг по пять-шесть, иногда читала что-то прямо в самой бибилиотеке. Я любила ее затхлый бумажный запах, любила стук шашек или шахмат, мешавшийся с шелестом страниц, любила кипу журналов «Крокодил», точнее последнюю страницу этого журнала. Через боковой проезд от библиотеки воззвышался памятник Павшим в Великой Отечественной Войне. Я любила стоять восьмого и девятого мая в почетном карауле возле обелиска. Обычно, каждому выпадала эта честь в один из дней, либо восьмого, либо девятого, но я, уже гордо нося кусочек алого знамени на груди, выпрашивала у завуча Зои Васильевны оба дня, и она снисходительно разрешала мне, принимая во внимания мои вне и программные познания в истории, и то, что обычно кто-нибудь из учащихся отлынивал от почетного стояния в почетном карауле. А напротив почты и остановки протяженностью метров в двести, в бывших, возможно, графских конюшнях располагалась восьмилетняя школа. Кто-то из мамкиных бесконечных подруг издевательски назвал ее небоскреб на боку. Я же нелепее ни снаружи, ни изнутри здания в жизни своей не встречала. Итак, пролетев площадь, я решила развернуться и описать по ней круг, в надежде, что из-за поворота покажется грязно-оранжевое пятно ЛИАЗа, и я, выждав сбор пассажиров, пущусь с автобусом на перегонки, под разудалый мат водителя, и пугливые охи, отбывающих за гастрономией в город, старух. На развороте между обелиском и школой, я увидела, как с крыльца почты мне что-то кричит и машет рукой местная почтальонша Савосина Евдокия Харитоновна, или попросту Хина. Мое детское сердечко захлестнул выброс адреналина. Хина была, пожалуй, самой колоритной личностью поселка. Круглая, курносая, с утиной походкой и нелепой кличкой старушонка, никак не вязалась с легендами ходившими о ней. Кости ей мыли не переставая, - четырежды вдова, похоронившая лет тридцать назад своего единственного сына. Но самым будоражащим было то, что считали Хину, как это ни смешно звучит в конце 20 века, колдуньей. Весь поселок от мала до велика судачил о ее связи с нечистой силой. Подкатив к крыльцу почты я, оперевшись одной ногой о ступеньку крыльца, навалившись грудной клеткой на руль, вопросительно и немного вызывающе уставилась на Хину. Она удивленная тем, что я не пустилась наутек, протянула мне кулек с конфетами: - Натка, возьми, помяни сыночка моего Славочку, - глаза глядели смущенно и боязно от того, что она каждый год готовила помин по сыну, каждый год старалась всучить его поселковым детям, но те наускиваемые своими родителями в дремучем страхе шарахались от нее. Я была первым ребенком, взявшим ее конфеты. Сделала я это не из жалости к Хине, не из охоты поесть сладкого, а из меркантильного интереса. Наслушавшись баек о ведьминской силе, и о том, что передаться она может через продукты, или прикосновения, я решила, пока подъезжала к почте, и видя зажатый в хининой руке кулек, что в конфетах заключена черная сила колдуньи, и я ее обязательно подцеплю. Поблагодарив за конфеты, я вскочила на велик, и понеслась к своему жилищу, чтобы предаться таинству посвящения. В девственном неухоженном саду за домом, а точнее за его принадлежащей нам половиной, я устроилась в зарослях малины, и принялась уплетать нелюбимые батончики. Ополовинив кулек, я прислушалась к своему организму. Продолжительная трель метеоризма была мне ответом. Но я не сдавалась. Я твердо решила стать преемницей черных сил Хины, тем более что все данные у меня для этого были. Иссиня-черные гладко-вьющиеся шелковистые волосы - папкино наследство, изумрудные немного злые глаза – это уже от отцовой матери, я, конечно, не переваривала ее, но красоты она была, как и ее сынок, необычайной, и я надеялась, что она - красота их - однажды расцветет и во мне, смешанная с материнским упрямством и юмором. И самым главным и ценным на мой взгляд показателем, моей профпригодности была какая-то вялотекущая нелюбовь к людям, за исключением, конечно, школьной семейки, и папкиной мамки - эти могли рассчитавать на непроходящую бурную мою, доходящую до дрожи, ненависть. Нелюбовь к роду человеческому, смешанная с усталым презрением таилась во мне, как хроническая болезнь, почти ничем себя не проявляя. Прикончив кулек, я уснула возле малины прямо на траве. Спала я недолго, проснувшись почувствовала тяжесть в желудке и меня вырвало колдовскими батончиками. В суеверной надежде я подумала, что так и должно быть и нужно теперь ждать прилива силы. Через неделю до меня все-таки дошло, что ни хрена никакого прилива не будет. Часть вторая II Все лето я преследовала Хину. Я колесила на велике вокруг почты, скупала там ненужные мне марки, открытки, календари. Однажды подловив старуху возле магазина с тяжеленными сумками, я предложила ей помощь. Получив согласие, я пристроила ее баулы на руле велосипеда, и потихоньку покатила к ее жилищу. Дожидаясь Хину возле калитки, я ловила на себе растерянные взгляды односельчан, и уже начинала уставать от повышенного внимания, когда хозяйка дома подошла ковыляющей походкой, поблагодарила меня за помощь, а я навязалась к ней на чай. Попав в святая святых, я огляделась. Ничего захватывающего в скромной обстановке ее дома я не увидела, ни старинных ведьминских амулетов, ни засушенных пучков кореньев и трав, ни свечей, ни лисьих лап. Ничего. В красном углу комнаты одна икона, для отвода глаз, решила я тогда. Доисторический обшарпанный шкаф, мутный трельяж, железная кровать, с бесконечной стопой разнокалиберных подушек, стол у окна, и наискосок во всю комнату полосатая изможденная дорожка. Везде, правда, были белые накрахмаленные, вышитые, как я позднее узнала, самой Хиной салфетки, и такие же занавесочки, белые накрахмаленные, вышитые. Видя мою расстерянность, Хина улыбнулась в кулак, откашлялась и позвала меня чаевничать. Я поднесла чашку и вдохнула изысканный аромат чая, отпив, поняла, что настоян он был на каких-то неведомых благоухающих травах, и догадка осенила меня, - конечно, все дело в потайной комнате! Или подполе – дом-то свой! Все, все было припрятано там, и ведьминские книги, и обереги с амулетами, и травы! Сейчас я удивляюсь, как я начитанная, умная не по годам, могла поверить в Хинину связь с нечистым. Ладно полуспившиеся, изнывающие от однообразия собственных жизней граждане поселка, но я?! Как я могла клюнуть на всю эту чушь?! Но в то лето одержимая желанием добраться до Хининых приватных закромов, нахвататься недюжинной силы, я стала каждый день встречать почтальоншу с работы, провожать домой, ходить с Хиной в лес, или в луга – собрать травки к чаю. Ага к чаю. Я все примечала, все запоминала, да и Хина начала мне потихоньку втолковывать зеленоаптечную премудрость. Научила меня нескольким молитвам, но Зоя Васильевна, завуч моей школы, если помните, была гораздо убедительнее в преподавании основ атеизма, чем Хина в роли проповедницы Православия, и я оставалась равнодушна к религии, но из лояльности к моей наставнице не показывала его. А брать с собой в церковь старуха меня не могла, опасалась, что меня из пионеров исключат. И только приговаривала иногда: - Придет тебе время, Наточка, придет... Я же воспринимала это все, как хитрость – не может же колдунья шастать в церковь на поклон к богу. Видя мою растущую привязанность к Хине, подходили сердобольные тетки, гладили меня сочувственно по голове и, упиваясь жалостью ко мне и своей значимостью, причитали: - Наточка, зачем ты, девочка, ходишь к этой старухе. Ничего хорошего из этого не выйдет, малышка. Бедный-бедный ребенок, матери-то совсем не до нее. Натыкаясь на ярость в моих глазах участливые тетушки одергивали руки и уходили бормоча себе под нос. Моя классуха, уже бывшая классуха, к моей плохо скрываемой радости, выловила меня в библиотеке и пустилась в пространную беседу о суевериях. Ее новая вставная челюсть, дурацки вытянувшая и без того долгое ее лицо, еще не приспособилась к ее рту, клацала, как у хищника, и похоже стремилась на свободу. Сначала я наслаждалась напрасными попытками Елены Ивановны угомонить чужеродное тело в полости зловонного рта, но потом предпочла отключиться и думала о завтрашнем походе с Хиной за травами. Не видя никакой реакции с моей стороны, старая идиотка подослала ко мне свою внучку- переростка, и та принялась меня стращать всякими небылицами о нечисти, о ведьминских шабашах, о крови невинных младенцев. Я с удовольствием подумала о том, что скоро тоже буду принадлежать к этой такой нечистой, но такой притягательной силе. Потом я устала слушать Ольгин бред и, поколотив, выгнала. Может и не бабка подсылала ее, может она сама была столь инициативным товарищем. Мать лишь раз поинтересовалась моей близостью с Хиной. Был какой-то вечер, почему-то мы вместе сидели у телевизора. В помещениях нашего полудома царил, как всегда, никого уже не смущавший милый беспорядок, часто переходивший в кромешный бардак. - Нател, ты чего к Хине бегаешь? - А ты откуда знаешь? - Да, какая-то полоумная навалилась на меня в автобусе, и давай каркать, что Хина растлевает тебя. -А ты что? - Пожелала ей всего наилучшего. - Соф, мне интересно с ней, - мамка любила, когда я называла ее по имени. Она тут же расслабилась, заулыбалась и спросила меня, как учеба. Я сказала, что уже месяц каникулы. Не то чтобы мама была рассеянной, она просто иногда не знала, о чем со со мной говорить. Хотя мое взросление облегчало ей задачу, со мной подругой, ей было легче, чем со мной дочерью. - Нател, что читаешь? - «Пятнадцатилетнего капитана», - соврала я. Во время поездки к бабушке я стянула у ее снохи «Унесенные ветром», и рыдала над горькой судьбой сильной женщины, пропуская описания военных баталий, и еще кое-каких нудных сцен. Я мечтала о том, что мой будущий муж, будет похож на Ретта Батлера, и я не буду такой глупой мерзавкой, как Скарлетт, и не буду его мучить. Осознание того, что если не будешь мучить ты, будут мучить тебя, что любовь и равноправие –понятия несовместимые, придет потом с тихой болью безответности. Три года спустя, я обнаружу у мамки в белье «Анжелику», прочитав полкниги разочаруюсь, и вернусь к моим любимым «Унесенным», прочту их уже целиком, со всеми боевыми сценами. - И как? – мамка решила исполнить свой родительский долг, устроив допрос. - Намного интереснее, чем фильм, - лицемерно заявила я. - Ты у меня умница! Давай махнем к тете Гале во Ржев, на недельку. А? – чрезмерно весело произнесла мамка, доставая «Явку» из пачки, смачно прикуривая, выпуская дым через ноздри. Я знала, что у мамы новый увлекательный роман, и ей совсем не хочется покидать своего неприевшегося возлюбленного, впрочем, как и мне не хотелось покидать Хину и ее тайны, поэтому возмущено подняв брови, я протянула: - Соф, прям щас? - А когда скажешь. Я поменяюсь дежурствами. Ржев, любимый нами обеими. Я не знаю каким он был до войны, фашисты, при поддержке советской артиллерии стерли его с лица земли. Но и тогда, мне кажется, он был таким же покосившимся обаятельным волжским городком. Наши корни, наша родословная начиналась оттуда. Подо Ржевом приютились деревеньки с родовыми домами нашей семьи, проданные огорожанившимися родственниками. Но кое-кто в тихой благославенной российской глубине оставался, а с ними парное молоко, которое мои дети никогда не попробуют. Деревенский, непонятый мною в ту пору, квас. Прабабкино домашнее пиво, рецепт, которого никому из калининской родни нашей, не пришло в голову записать. Ноги мои поколотые сенокосом. Каменистая лесная речушка, мелководная, но знающая свое дело – обогатить своими хладными водами великую русскую реку. Неприличный грибной урожай, с наглыми непомещающимися в ведро боровиками. И клюква – зеленобокая, дозревающая под кроватью, и таскаемая оттуда горстями, и спасающая в сезон от простуды. А вот на Болоте клюквы нет. Все условия есть, а клюквы нет. И я иногда печалилась – для чего мать поселилась в этой невезучей дыре, когда есть Ржев с его восхитительнями холмистыми окрестностями. С упоительной пятидесятидворовой деревенькой Орсино, от которой двадцать лет спустя останется три дома. Три. Один, слава богу, мамкин. И бывшая Тверская, потом Калининская, потом бывшая Калининская и опять Тверская область войдет полнокровно в наши жизни. Но не сейчас, Ржев! Не сейчас! Вообще, мне повезло с мамкой. Моя воля, свобода, самостоятельность многого стоили. К тому же я была одета, обута. В холодильнике помимо больничных супов и котлет, всегда были деликатесы, доставаемые благодарными больными врачам, и медсестрам. Моя сытая свобода, была мне по нраву, но порой мне хотелось свернуться калачиком на диване, чтобы мамка гладила меня по голове, чтобы шептала на ушко что-нибудь ласковое, чтобы чмокнула в щечку. Впрочем, детская моя тяга к ласкам удовлетворялась бабкой Клавой, неприкаянным моим папкой, наваливающимся в избранные выходные, не знающим о чем со мной разговаривать, но умеющим приласкать, дарящим мне всякую чепуху, и смотрящего на мать глазами побитого пса, чем тяготил ее неимоверно. Теперь еще Хина. Она нежно трепала меня за щеку, обнимала за плечи, говорила о моей красоте, но нужной степени близости, чтобы распросить Хину напрямую о ее силе, или хотя бы намекнуть, между нами не было. Лето подходило к концу, моя вера начала давать трещину, но вдруг одно августовское происшествие, подняло престиж Хины в моих глазах, выше, чем на былую высоту. Мы сидели с Хиной за пасьянсом, когда во дворе послышался шум, и в окно террасы бешено заколошматили. Старушка засеменила к двери, впустила Аньку Ожерельеву с месячным сынишкой на руках. Анька была бледна, лохмата, наспех одета и взволнованно тараторила: - Хина, у Вовки грыжа пупочная, наорал. Мы пятак привязывали, не помогает, а врачи резать начнут, жалко этакого кроху. Помоги. А Натке, - она стрельнула в меня бледными голубыми глазами, - скажи, чтоб молчала. - А ты не командуй тут, дочка. Поможем сыночке твоему. Чего ж не помочь младенцу невинному? Клади его на столик я погляжу. После осмотра Хина наказала Аньке носить к ней Вовку три дня. На рассвете. Я съедаемая любопытством, вскакивала вместе с мамкой, и неслась к Хине. Та, дождавшись пациента, брала его на руки, что-то бормотала над маленьким, а тот во время сеансом молчал и причмокивал губами, когда же мать брала его на руки начинал истошно орать. Когда работа была окончена, Анька, смущаясь, протянула старухе трешник. Хина устало посмотрела на Ожерельеву и глухо сказала: - Кто послал тебя почему не сказал, что я деньги не беру? - Прости, Хина, и спасибо за мальца. - Иди с богом, дочка, и не забывай поить Володю отваром. Хина сделала ударение на первый слог, и я, когда Анька ушла, с видом всезнайки деловито поправила старушку. Хина улыбнулась, и молвила, именно молвила, а не сказала, или произнесла: - Это в аптеках отвАр, Наточка, а у меня – Отвар. Я, решив что момент настал, принялась распрашивать Хину о ее заговорах. Она, смеясь, сказала мне, что никаких заговоров нет, да и грыжи у Вовки нет. Просто он пацан крупный и пупок у него здоровый, как и положено мужику. А орет не от боли, а оттого, что собственная мать его боится. - Ты приметила, как она на руках сыну своего держит? Руки, как деревянные, а может ли дитю быть хорошо на деревяшках? Вот я заварила ему успокоительных травок. Но я не поверила Хине, и решила, что я мала еще для ее тайн, и нужно просто выждать время. Время шло – год, два, три - я взрослела и поняла естественно, что старуха не была никакой колдуньей, а просто вобрала в себя от предков народную мудрость, знание трав, их лечебные и ядовитые свойства. Знала, как помочь человеку, если он сам себе голову заморочил, и болеет от этого. И все, что она знала, она передавала мне. Мысли свои, чувства, все чем она владела, она вливала в меня. Одного я не принимала в ней – ее непомерной любви к людям, дремучесть которых заставляла в жуткие минуты их бестолковых жизней прибегать к помощи неведомого, а в минуты благополучия бить по руке, которая вытягивала их из дерьма. Хина была для них изгоем, изгоем становилась и я, с той разницей, что она страдала от народной непримиримости, а мне было плевать на нее. Меня даже радовала волна тупой отстраненности одношкольников, косые взгляды местных сплетниц, большая половина из которых благополучно спивалась вместе во своими мужьями. Хина где-то умудрилась простыть. Я заваривала ей травы, отпаивала ее, но она почему-то чахла. Я попыталась отправить ее в больницу, но она подписала вызванной мною «Скорой» отказ от госпитализации. Мама предложила показать ее ведущему врачу города, но и на это Хина ответила отказом, заявив, что на все воля Господа и она может положиться только на его волю. Я суетилась у печки с куринным бульоном, когда услышала сиплый голос старушки: - Нат, дочка, поди... Я присела на краешек кровати, взяла дряблую морщинистую руку Харитоновны в свою и вопросительно посмотрела в выцветшие сердобольные глаза старухи. - Нат, дочка, мне пора... - Куда тебе пора? - Ты умная девочка... И добрая - Не говори глупостей, какая я добрая! - Ты злишься на людей оттого, что понимаешь их и любишь. Не любила, не злилась бы. Я прислонила голову к иссохшей Хининой груди: - Они в страхе своем бояться тебя, а ты их любишь. - Так ведь и тебя они теперь бояться... Хине не досталось места на старом уютном, окруженном убаюкивающими березками кладбище. Новое Невзорово простерлось на хлипкий пустырь, затапливаемый любым уважающим себя дождем. У людей с началом государственных реформ и иссяканием достойных материальных средств, выбора в оформлении могил не осталось – однообразные черные ограды, едва доходящие до колен, и такие же однообразные кресты. Мы стояли в дождливый октябрьский день возле расхлябанной, но более менее соответствующей параметрам, ямы. Я, мама и священник. Батюшка был молод и светлолик, не обращал внимания на дождь, на вымокшую, забрызганную до самых ягодиц, и ставшую бесформенной рясу, и делал свое дело. Ни одна из тех, чьих младенцев Хина успокаивала, чьих мужей выводила из запоя, чьи желудочно-кишечно- половые расстройства она «заговаривала» не пришла с ней попрощаться. Ни возле милого, немного скособоченного домика Хины, ни сюда... Зато на поминки, уж в чем, в чем, а в этом я нисколько не сомневалась, соберутся все припитые поселковые праздношатаи. Хина хотела, чтобы помин был христианский – и девять дней и сорок. Конечно, с маминой поддержкой я сделала для нее это. Я выдержала лицемерно-равнодушную череду выпивох, любопытных за оградой, решившуюся на распросы бывшую мою подругу Ритку. Все свечи были поставлены, все записки поданы, все молебны отслужены, и после сороковин мы с мамой переехали к ее новому мужу, и я думала, что забуду Болото, как нелепый сон, но унылый поселок, был неотделим в моей памяти от образа Хины, там она жила, там она спасала его обитателей, как умела, и как могла... Через пятнадцать лет Болото, как я отмечала в начале, придет в окончательный упадок. Нет, как-то мягко сказано. Болото потонет, прихватив с собой некую плавученеспособную часть населения, но большая половина его жителей спасется в городе. Городе, уже не пытающимся призвать столицу к исполнению долга перед когда-то нужным, когда-то полезным, позднее удивительным своей невезучестью и какой-то гнетущей изолированностью, а теперь изможденным за собственное, ему одному нужное выживание, поселком, и надо мной нависнет смутная печаль прежних людских теней. Потом она отеплится появлением в мой день рождение Лельки... Лелька возникла на пороге моей квартиры, без разрешения просочилась в коридор и закартавила: - Нат, я пгошу тебя, помоги. Мой запий, тащит все, пагазит из дома, с аботы его выгнали, жить не на что, а у нас двое ебятишек, Нат! А ты ведь всему от Хины научивась, помоги, а... «Помоги, Нат! – предразнила я про себя Лельку, - Вот сука!» Училась эта некогда стройная, а теперь рыхловатая, но в общем довольно интересная деваха на два класса старше и постоянно меня цепляла. Хуже всего было то, что она не была вовсем уж дурой, и даже обладала кое-какими зачатками чувства юмора, поэтому над ее оттачиванием острот, направленных в мою сторону, ржали все старшеклассники, даже те, до которых не доходила вся глубина. Правда, я быстро присекла всеобщее веселье, пообещав юмористке, что напущу на нее порчу. Я, конечно, могла бы подраться с Лелькой, но за нее встали бы ее кобылистые подруги, и меня просто-напросто отпинали бы. А теперь, она бухается мне в ноги: - Нат, помоги! Теперь все поверили в бога, в знахарей и разуверились в докторах. Послать бы ее, да детей жалко...» - Принесешь мне завтра бутылку водки, я постараюсь тебе помочь. Только постараюсь. Поняла? И будешь все делать, как я скажу. - Я все поняла! – с щенячей преданностью и щенячим же восторогом в глазах Лелька исчезла. Конечно, я накачаю ее Руслика, во время не слинявшего со старого, но отнюдь не славного Торфопредприятия, Руслика, успевшего пристраститься к бутылке, но возможно еще не совсем дегенерировавшего молодого человека, копытнем. Конечно, отправлю Лельку и, рвушегося между семьей и пиянством, мужа ее к отцу Игорю, пусть он им обоим, как следует мозги вправит, неизвестно ведь от чего Руслик спивается. И я даже просить не стала Лельку о том, чтобы она молчала о своем обращении ко мне. Я уже поняла, что просить людей, иногда о возможном бесполезно, а уж про невозможное и говорить нечего. Роясь в пучках трав, собранных мною в относительно экологически чистом Орсине, я внутренне готовила себя к бесконечной череде теперь согорожан, а когда-то однопосельчан. Можно, а может быть и нужно было отшить Лельку с ее естественным неприкрытым желанием бабьего семейного счастья и не допустить потока отчаявшихся жен, матерей, подруг? Зашориться и идти своей дорогой. Но у меня не хватило сил ... |
проголосовавшие
комментарии к тексту: