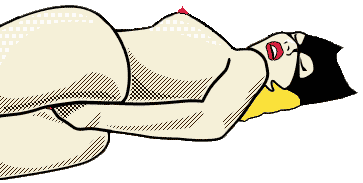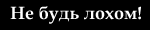(Эпистолярно-травестийная повесть)
Город Скрипящих Статуй.
Наверное, это мое последнее письмо, и ты последнее живое существо на этой забытой Богом планете, которое сквозь неисчислимые кубометры кислорода еще может различить мой голос. Впервые, я испытываю новое чувство - благодарность. Спасибо. Хорошо, что я успел сказать тебе спасибо. Я думаю, каждый из нас похож на детский калейдоскоп: у каждого свой набор красок и своя форма стекол. Нет ничего лишнего, нет ничего недостающего. По крайней мере, в идеале. Но я - игрушка-калека, моя мозаика одноцветна и каждый новый день означает потерю очередного незаменимо важного фрагмента моего мерного Бытия. День исчезновения последней детали станет днем моей смерти. Сегодня мои воздушные витражи померкли и выцвели за одно мгновение… Я говорил тебе, что каждый вечер играю в шахматы. С кем, ты спрашивала? Со студентом-медиком, по имени Стефан, одиноко проживающим в квартире номер 13, дом 217/3, что на Чернильной Набережной… Ну да - мой адрес… Я всегда играю черными. Черт с ним, с преимуществом. Да и разве право сделать первый ход можно назвать преимуществом? Слишком большая ответственность: неудачно начнешь партию, а через три хода твой ферзь уже на вертеле противника. Вообще-то, я плохо играю. Собственно, только то и знаю, как лошадью ходить. Но заняться больше нечем; вот и задыхаюсь от треклятой этой жары в четырех стенах. Но выходить тоже не хочу: да и зачем? Все эти люди, прячущие глаза под полями панам, эти женщины, вылитые из магнита, отвратительные дети, мерзко визжащие под окнами, все это Нечто, что принято называть нормальной жизнью… Не для меня. Не мой размер. Жмет и тянет. Лучше выпить с бедолагой Стефом из 13-ой по кружечке полынной настойки и начать расставлять фигуры на доске. М-м-м…фигуры… Я же вот что хотел тебе сказать: я же пешку потерял! Да-да! Потерял пешку, третью, с левой стороны. С левой. Третью. Я перерыл весь дом - ее нигде нет. Заглядывал под кровать, поднимал ковры, перекладывал книги, смотрел в духовке, в холодильнике… Она, разумеется, может быть где угодно. Может быть, ее украли? Не иначе! Черт, черт, я даже знаю, кто мог это сделать. Под моими окнами третий день шастает какой-то подозрительный тип. Ну, очень подозрительный. Я сразу заподозрил, что он что-то замышляет. Он похитил мою пешку! Если я прав, то завтра он не появится. И я больше никогда не увижу свою пешку. Ты должна меня понять! Что я скажу Стефу? А главное, что делать сегодня вечером? Мне страшно, Энн. Мне безумно страшно: если начали пропадать черные пешки (третьи слева!), что же теперь будет? Что будет, Энн? Я ведь не зря сказал, что это, наверное, мое последнее письмо. Если сегодня наступит ночь, а я не выпью полынной настойки, и, и… сейчас, сейчас - я соберусь,… и шахмат тоже не будет… Я не засну сегодня. Этот ужасный скрип будет преследовать мое несчастное сознание до рассвета. Скребущий, царапающий, острыми кусочками льда впивающийся в спину, звук…(У меня все тело в шрамах) А когда он попадет в резонанс с совиным криком, у меня обязательно начнется припадок. Инсулин лежит в шкафчике на кухне, а я смотрю на небо с балкона в спальне. Я не дотянусь. Я живу один. Пожалуй, это мое последнее письмо…
До свиданья, Энн. А если до вечера не найду свою черную пешку, ту, что третья слева, тогда - прощай. Стефан.
Город Пересохших Фонтанов.
Я удивляюсь, как эта тонкая бумага не вспыхивает, превращаясь в пепел, когда обожженная солнцем моя рука прикасается к ней. Я пишу это письмо в своей маленькой душной комнатке, которую называю «гостиной». Окна зашторены, а за ними - невыносимый зной… Я хотела… Тебе сказать, что… Не нужно этих мыслей, Стефан. Пешка - не оправдание - все мы в той или иной степени желаем смерти, которая тихо придет к нам, и смежит наши воспаленные веки прохладными пальцами, но это противоестественно, неправильно, безумно! Жизнь, Стеф, жизнь - единственное мерило и источник наших желаний; неужели ты хочешь взять от нее только ее окончание? Стеф, мне больно… Не говори так больше. Ты доживешь до вечера, тем более, ты знаешь, что мой ответ почтальон не принесет до этого злосчастного вечера! Не заставляй меня страдать, прошу. Знаешь, я, наверное, готова стать твоей пешкой - третьей слева, бросить все и стать шахматной фигуркой, лишь бы ты не говорил больше таких страшных слов. Я далека от шахмат (их ведь придумали индейцы?), но, думаю, пешка - очень важная фигура, иначе… Я бы не желала стать ею. Ты прав - это слишком большая ответственность. Тихо. Только раскаленный воздух звенит. У подъезда опять ошивается таинственный мужчина в темных очках и мешковатом выцветшем плаще: светло-зеленом или, может быть сером? Кто знает… Почему-то он внушает мне страх, странный где-то даже мистический страх. Потому что носит плащ в такую жару. Потому что носит темные очки и ночью. Потому что торчит день и ночь у дверей дома или на лестнице. Пора прекратить волноваться – чего доброго разболится голова… Здравствуй, Стефан! Не прощай, а здравствуй. Если не можешь играть в шахматы, пей свою настойку, устанешь пить - читай, не можешь выносить скрип мерзких истуканов - слушай музыку. Боже, опять эти звуки… Соседи снизу - прегадкая сорокалетняя чета, купили рояль. Их отпрыск - огненно рыжий чертенок с едва наметившимися грудками и курносым лицом, покрытым прыщами и веснушками, уже три недели извлекает из утробы этого лакированного зверя нечеловеческие звуки. Как мне надоели эти гаммы! Как мне надоели эти сумасшедшие кричащие цвета ее безвкусных кофточек! Как меня раздражает это ежедневное «Здравствуйте, мэм!» Я не мэм, черт побери, я - мисс! Полдень набирает силу. Не обязательно открывать окно, чтобы услышать, как горячий ветер гонит по иссохшим кустам волны желтого песка. Бесконечный шорох стелется по улицам Города, и нестерпимая жажда прогибает спину растрескавшейся земли под выцветшим безоблачным небом. Недалеко от моего дома находится площадь Миракль. Если бы ты знал, Стеф, какой чудесной красоты там фонтаны! Там каменный Геракл разит Гидру, чьи двенадцать пастей разинуты в застывшей боли. Там Единорог положил прекрасную голову на плечо Девы. Там Тритон, потрясая трезубцем, рассекает каменные волны, сидя верхом на Дельфине. Там сотни других изваяний, обрамленных кругами высохших стоков, разбросаны по огромной площади. В час, когда жара идет на спад, можно надеть белое воздушное платье, соломенную шляпу, с широкими полями, и отправиться туда, чтобы сесть на горячий парапет фонтана и застыть самой, словно статуя - вытянутая, напряженная, алчущая влаги… Какой же бесконечной тоской полнится все твое существо, когда слышишь, как под землей, по трубам ползет скрипящий жуткий шорох. Да, Стеф, из фонтанов моего Города струится песок. А люди его изнывают от бесконечной жажды. Эти глаза… Мне становится страшно, когда я представляю, чего они могут желать, - вечно ищущие, бегающие, лишенные покоя. Эта жажда умопомрачительна, она раздевает донага людей, разделяет их на тело и душу, тело - на плоть и кровь, душу - на воспоминания и Небытие, и каждая частица, каждая кроха - желанна, ее выпьют, высосут, съедят, но никогда не насытятся, никогда, Стефан… Так, худой, словно жердь, старик из 8-й квартиры, мнящий себя пожилым Ловеласом, с жаром повествует мне о своих бранных подвигах, когда мы случайно встречаемся в коридоре, а в глазах его геенной горит желание затащить меня в свою постель, пропахшую мочой и дряхлостью. Так приторные комплименты рыжей пигалицы источают смертельную, как яд, зависть и жажду недоступной красоты. Так даже из сонной и вечно тихой квартиры этажом выше, откуда всегда несет жженым сахаром и полынью, тянет, словно сквозняком, какой-то безумной алчной тоской и … пешка. Черная пешка. Третья, слева. Почему я не могу забыть ее? Почему я так хочу к тебе, Стеф? Давай я все забуду, уеду к тебе, найду твою пешку, и начну жизнь снова? Да, да, я хочу этого, я немедленно соберусь и приеду. Потому что эта пешка, которая я даже не знаю, как выглядит, перевернула мои мысли, мой… Нет, пожалуй, я не приеду. Почему? Потому что воды реки стали вдруг чернильно-синими. Потому что графин с некогда ледяной водой стал теплым… Я не знаю почему. Потому что меня ждут сегодня вечером. Да, а ты думал, что я одинока, как все в этом гиблом месте? Нет. Каждый вечер я делаю прическу, крашу губы алой помадой, подвожу глаза, надеваю свое лучшее платье (оно - из струящегося лилейного шелка) и накрываю стол на двух персон. Жду его. Когда я выпиваю полбутылки мускатного, приходит он. Я ставлю «Болеро» Равеля, и мы танцуем до утра. Я никогда не помню его лица, запаха его одеколона, и порой мне кажется, что все это - он, танец - обман, иллюзия, голем, что все это существует только потому, что так сильна моя жажда существования этого. В такие моменты лучше не видеть меня - я становлюсь раздражительной и вздорной. Но приходит вечер, с ним - вино и Равель… И я снова легка и воздушна, как голубка, купающаяся в лазури неба, и жажда, и он, и снова жажда, и лилейный шелк, и стол, и стулья, и я одна, как всегда одна… Сегодня я нашла на лестнице чудесную вещь. Она из темного дерева, небольшая, с круглым навершием и круглой подошвой из красного бархата. Может, это - подсвечник? Но где найти такую миниатюрную свечу, чтобы она уместилась на моей странной находке? Я буду носить ее на шее. У меня есть для этого тонкая серебряная цепочка. Пусть моя находка напоминает о тебе, Стефан. О том, что ты найдешь свою пешку, и будешь счастлив, не будешь больше снедаем страшными мыслями.
Анна.
Город Скрипящих Статуй
Я хочу поздравить тебя с наступлением весны. Наконец-то стихла эта невыносимая жара, успокоился зной, затуманилось, скрылось за пленкой линз озверевшее солнце, и пришла весна. Долгожданная сырость щекочет ноздри, и воздух пахнет умопомрачиетельно сладостной гнилью. С потолка капает. По полу растекаются грязные коричневатые лужицы. Прекрасный день. Идет дождь. Жесть подоконника стонет от наслаждения. Мир тяжело и страстно дышит, а мое сердце разрывается от необъяснимого волнения. Потоки теплых ливни смоют, все очистят и приведут в порядок. Они смочат иссохшие суставы чудовищных статуй на главной площади, успокоят их истосковавшуюся по ласке плоть, освежат их покрытые сухими морщинами лица… Ведь мокрые статуи не могут скрипеть. Это во-первых. А во-вторых, не могут они скрипеть, хоть убей. И тогда, я уверен, они больше не станут пугать по ночам честных людей кошмарными звуками доносящимися, казалось бы, из самого ада. А будут тихо спать и видеть сны о недостижимой свободе, о ласковом апрельском дожде, о капели, о нежном прикосновении весеннего ветра. Стеф сегодня не придет. Он позвонил, сказал, чтоб я зря не беспокоился, что черная пешка третья слева у него, что он ее нашел и обязательно принесет в другой раз. Попросил выпить за его здоровье. Пью вот. Над головой струится тонкая змейка дыма от моей сигареты. Дымок белого цвета и одуряюще пахнет. Кружится голова. Руки пахнут полынью и жженой тканью. Стеф сегодня не придет, мерзавец. Нет-нет, не говори ничего, я сам знаю. Стефан бросил меня. То есть он ко мне вообще больше не приходит. И знаешь, я этому обстоятельству ужасно рад. Ну, посуди сама, Анна, зачем мне нужен этот очкастый ботаник, когда мир наконец-то начал расцветать для меня! Стеф исчез, но привычка пить полынную настойку по вечерам осталась. Правда, уже без шахмат, потому что потерянная черная пешка, та что была третьей слева так и не нашлась. И ничего, что не нашлась. Гораздо приятнее посидеть в хорошей компании без всяких шахмат. Другое дело, что теперь я пью с … Я потом как-нибудь расскажу. А тот «подозрительный тип», о котором я тебе говорил, вовсе не так уж подозрителен. Он оказался довольно хорошо воспитанным парнишкой с интересными взглядами на мир. Я столкнулся с ним на лестнице на днях: он ждал кого-то. Не буду скрывать, что первое, что я заметил, была его сказочная шевелюра. Прекрасно. Черные, как смоль, густые волосы, слегка подвивающиеся на концах, отливающие тяжелой бронзой на ярком свету. Впрочем, я отвлекся. Теперь мы иногда встречаемся за кружечкой… чего-нибудь горячительного. Хм, и все же любопытно, кого он ждал? И уже на обратной дороге столкнулся с одиноким мужчиной в годах, что обитает по соседству. Вот настоящий пример для подражания. Кем нужно быть, чтобы до седых волос дожить и сохранить столько шарма в манерах и элегантности. Уникальный экземпляр. Статный, уверенный в себе, прекрасно сложенный, и даже некоторая худоба его не портит. Правда, меня порой раздражает его привычка постоянно говорить исключительно о себе и обращаться к собеседнику таким покровительственным тоном. Но, возможно, он только со мной такой. Возможно, он меня за что-то невзлюбил. Да и за что, если разобраться меня любить? Неудачник, вечный студент, и ко всему прочему прогрессирующий алкоголик. Именно так. Я сознаю, что слишком много пью, но… Иначе никак не получается. К тому же, все пьют. Я ничуть не лучше и не хуже других. И любят не за что-то, а просто так. Я оправдываюсь, Энни. Я опять трусливо оправдываюсь. Вот еще: вчера в мою дверь постучался ангел. Ангел попросил дрожжей. Как ни странно, но дрожжи у меня были. Собственно, только дрожжи у меня и были, больше ничего. Я со священным трепетом отдал этому существу с волосами цвета закатного солнца все свои дрожжи. До последнего грамма. Да что дрожжи! Боги! Я отдал бы ей всю кровь до последней капли. Ах, а как трогательно-неловко она сделала книксен, уходя… Она еще совсем юна. Родители (стандартная довольная жизнью семейка – «источник всякого мещанства, идиллистическое благополучие») подарили ей рояль. И теперь по вечерам она упражняется, а я таю от счастья. Потому что за музыкой (назовем это так, пусть) не слышно скрипа… Энни! «Растоптан век соборов кафедральных…» Потрескавшийся лак на спине черного трехногого чудовища заменил мне Родину и свободу. Я беженец в своей стране, гость в своем доме, у меня вообще нет дома. Я потерялся, заблудился, утонул в каменных волнах огромного и страшного города. Вокруг меня никого нет – первозданная пустота, кромешная тьма… Пусто, Энни. Если бы ты знала, как мне пусто. Как я хочу превратиться из грязной пустой глиняной миски в полное душистых и сочных плодов инкрустированное золотом блюдо! Ах, я несу чушь. Мне надо отдохнуть. Давно пора. Не обижайся, Энни, за то, что я стану редко писать. Просто появились некоторые обстоятельства… Или нет писать я буду так же часто, но, вероятнее всего, с каждым письмом ты будешь все меньше и меньше меня узнавать. Заранее прости. Ты страшно дорогой человек для меня. Ты мне нужна - не пропадай. Стефан.
Город Пересохших Фонтанов.
Стеф. Стеф, Стеф, Стеф. Под окнами полоумная старуха продает воду. У ее ног плещут темные воды канала, над головой ее из груды грязного хлопка доносится глухой рокот - собирается дождь. А она хвалит свой товар низким, каркающим голосом, протягивая треснувший глиняный кувшин, истекающий влагой, редким прохожим, которые шарахаются от сумасшедшей. Мое окно открыто. Я сижу на подоконнике обнаженная, курю и пью коньяк. Мне спокойно. На груди моей подрагивает в такт биению сердца таинственный кулон черного дерева… Прохожие глазеют на меня: женщины гневно поджимают губы, бичуя каблуками мостовую, мужчины раскрывают рты и спотыкаются на ровном месте, дети смеются и показывают пальцами. Для них я - фреска, древний барельеф, изображающий простую красоту вечности. Простую - и оттого непостижимую. Я властна над ними: они завидуют мне, сами не зная за что. Я, как врата Астарты - убийственно откровенная тайна, сакральную суть которой можно постичь, лишь прикоснувшись к ней, лишь принеся к ней кровь, пот и слезы, чего они делать не будут. И поэтому, из-за своей непостижимости, для них я - пьяная шлюха, вылезшая в окно эпатировать порядочных граждан. Ха… Лишь старуха, торгующая водой, не обращает на меня внимания, и я благодарна ей за это. Наши с ней роли похожи: мы отдаем самое драгоценное тем, кому это не нужно. Я и безумная старая леди… Ха! Так-так. У старухи появился первый и, скорее всего, последний покупатель. Оказывается сумасшедших в этом городе еще больше, чем я думала. Это тот самый неприятный типчик, тот, что вечно скрывает свои разбухшие от наркотиков зрачки под непроницаемыми стеклами круглых солнечных очков. Ему тоже на меня наплевать. Он ищет кого-то другого. Внизу рыжая дьяволица трогает клавиши. Налицо прогресс - «Лунная соната» - день-деньской: любовь - одиночество, одиночество - любовь, я бы давно уже обезумела от этих скорбных звуков. Боже, как давно я тебе не писала… Вот уже песок, тот, что извергают фонтаны моего города, стал сырым - верный признак того, что настала осень… Я глупая, Стеф, глупая, глупая, глупая… Я - гадкая лгунья, мой милый Стеф, не отвечай мне, забудь меня, я тебя недостойна. Та наивная, одинокая дурочка из моего письма - ложь. Бесполезная и бесцельная ложь. Эта ложь - во имя, и имя это - Анна. Я хотела быть другой, Стеф, хотела быть чище, светлее, наивнее хотя бы для тебя - человека, который не видит мою пеструю жизнь, погрязшую в пороке. Я - змея. Ослепительно прекрасная, скользящая по раскаленному песку. Путь мой усеян бессловесными тварями, напялившими на себя маски непоколебимых титанов. Это вы - мужчины. Мне горько об этом думать, но я начинаю понимать, что ваша единая жажда - это беспощадные кольца, медленно сжимающие ваши горла, потом - укус в самое сердце, сладостная агония от смертельного яда и Забвение. Тайна женщины - темная тайна. Тайна мужчины - разгадка тайны женщины. И все. Все просто. Но вы все усложняете - либо слабость, либо излишняя сила и бравада закрывают вам глаза. Вы заперты в своей мнимой независимости, и иногда мне кажется, что я осуждена быть женщиной… Прости меня, Стеф, я знаю, что тебе и так несладко, но эта моя странная ложь обжигает мне душу, и я… глупая, глупая… Неделю назад был Пьер. Я встретила его в баре, у него были воспаленные глаза, золотой браслет и влажные руки. Мы говорили о музыке, пили «Королевскую кровь», а потом занимались любовью в его номере, в гостинице. Он доброжелателен, но вспыльчив и недалек. На другой день он звонил и признавался в любви, просил руки. Он еще и слеп… Потом был Антон. Званый ужин. Странный акцент, черный фрак и покрасневший от кокаина нос. Оккультная философия, в которой я ни черта не смыслю. Умопомрачительный секс, в чьей-то комнате, где было много красного бархата. Потом еще вечер в ресторане. Снова секс. Потом розы - буря белых роз у дверей. Потом я сказала «Прощай». Иногда он звонит - когда пьян в стельку. Потом был Фред, потом Николас, потом… потом я устала и, закрывшись в квартире, пила «Наполеон», с ужасом внимая «Лунной сонате» и чьим-то сдавленным крикам и грохоту из мятной квартиры этажом выше, куда, кстати, по вечерам стал подниматься какой-то юноша в зеленом плаще. Мне тоже страшно, Стеф. Я покупаю воду у безумной старухи, которая с утра до ночи каркает под моим окном, потому что боюсь открывать краны - вдруг оттуда посыплется песок? Моя черная карма - любовь, идущая за мной по пятам, и иссушающая мою душу. Я сама - жажда, и мне нечего дать жаждущим. Я верю тебе, Стеф. Прошу, не бросай меня! Анна.
Город Скрипящих статуй.
Привет, Энни. Что ты говоришь такое? Разве теперь хватит у меня сил тебя бросить? Грешники, знаешь ли, слишком хорошо понимают друг друга. Я сам грязен, отвратительно нечист. Когда я умываюсь по утрам, у меня появляется непреодолимое желание содрать с себя эту эластичную маску цвета высохшей грязи, маску, которую я ношу так давно и страстно, что она вросла в меня. Я сам превратился в маску. Безразличия, холодности, твердости, мужественности… Вру, как обычно. Нет во мне никакой мужественности. Я слаб и… Энни, я тяжело болен. Не бойся, это не заразно, хотя… Нет, я не намерен утомлять тебя очередной душещипательной историей о том, как у меня обнаружили рак яичек на последней стадии. Я плохо сплю по ночам, но не оттого, что боль ржавыми когтями впивается в мои чресла. Напротив, я мучим самым сладостным возбуждением, в какое только может впасть человеческое существо. Я измарываю простыни густой белой жидкостью с дурманящим ароматом. Это нектар, это манна небесная, это сила моя и мощь. Каждое мгновенье, каждый миг, она рвется наружу, хочет во славе и триумфе излиться на нежные уста моего возлюбленного… Так-то. Только ты хоть не говори, что я извращенец. Я НЕ извращенец. Нет ничего более естественного, чем любить. Не важно кого. Лишь бы любить. Мальчики, девочки - не все ли равно? Если чувство есть, если оно свежо и ново и захлестывает пьянящим волнением всего тебя, без остатка… В чем же моя вина? И у меня, и у тебя, и у всех нас, убогих и низких, есть право на любовь. И мы ищем ее как умеем. Ибо Господь есть Любовь, как утверждают ханжеского облика особы в черных сутанах, которые ни черта в этом не смыслят. Вчера приходил Он. Он прекрасен. Ах, эти внимательные глаза, которые видят все и в то же время ничего не видят! Глубокое вязко-зеленое болото или черные омуты, словно бездонные дыры в космосе… Никак не пойму какого они цвета. Он носит старомодный зеленый плащ, затертый чуть ли не до дыр и древний, как мир, серый клетчатый пиджак. Порой, он надевает полосатый галстук дикой расцветки. Это значит, сегодня он напьется в хлам, будет глупо смеяться и признаваться мне в любви. И я ему, конечно, поверю. Не знаю, в чем его притягательность, в чем его шарм. Но я готов простить ему что угодно. В конце концов, я безропотно прощаю ему «грязного пидора», «мерзкого извращенца», потому что знаю: если не через минуту, так через две он, опустив длинные ресницы, бесшумно подойдет сзади… прошепчет «ну, извини» и властным, резким движением расстегнет мне джинсы… Прости, Анна, я увлекся. Нельзя же говорить только о себе. Я не эгоист, хотя и кажусь. А вот еще. Сегодня шел в магазин за майонезом и встретил у подъезда девицу, что живет этажом ниже. Специфическая особа. Красивая по-своему, но какой-то несовременной красотой. У нее внешность моделей Рафаэля или Боттичелли, но никак уж она не тянет на холеную красотку из глянцевого журнала. Вообще-то она, наверное, нравится мужчинам: эти ее роскошные бедра и высокая пышная грудь, полные всегда слегка приоткрытые губы, словно ждущие поцелуя. Она двигается как дикая кошка, нет, нет - вовсе не мягко и совсем не плавно, скорее порывисто и страстно, как молодой, неопытный львенок. И грустная. И бешено сексуальная, должно быть. Я вот что хотел тебе сказать. Не думай только, что это я это из жалости или еще того хуже - из вежливости. Ты единственная женщина, которую я мог бы полюбить. Жаль, что мы познакомились слишком поздно. Впрочем, я почти тебя люблю, но по-другому, не той любовью, которая вскипает в моих жилах при виде стройных эфебов с тугими ягодицами. В них я вижу другие ипостаси себя самого, да и притом не всегда самые лучшие. А в тебе я вижу душу, дух, силу, стержень. Ты все можешь, и в отличие от многих пошедших по твоему пути, ты все еще чиста, как майская роза; у тебя все впереди, милая, все получится. Просто, ты немного запуталась. Какое все-таки очарование громадное в этом юном существе, я имею в виду соседскую девочку, о которой я тебе рассказывал. Я не испытываю к ней никакого сексуального влечения, Боже упаси. Она символ моей утраченной в незапамятные времена невинности. Лучик яркого рыжего солнца в моей сумрачной обители. Она, несомненно, глупа, но это прелестная глупость непорочного ангела. И бесконечные гаммы, и еще какая-то глупая сентиментальная пьеска, которую ей удалось с горем пополам выучить, все это может привести в бешенство кого угодно, только не меня. И все же ты. Ты, ты, ты, ты, ты, ты…. Незнакомка, чьи глубокие, как Марианская впадина глаза, уж точно не пожирают окружающих с алчностью голодной тигрицы. Ты. Нет, несмотря ни на что ты не похожа на других женщин, на этих расфуфыренных дур, что накладывают сантиметровый грим на морду прежде, чем выйти на улицу, что оставляют за собой длинный удушливый шлейф дешевых духов. Они, как безмозглые сороки, таскают на шее всякую дрянь, все, что найдут: ключи, брелки, колечки, пивные пробки, монетки… Нет, Энни, ты другая. Я вижу, я чувствую… Я… Нет. Глупости. Держись, милая, милая Энни. Я с тобой - извини за банальность, но это действительно так. Стеф.
Город Пересохших Фонтанов
Ах! Получив твое письмо, я воскликнула: Ах! А потом рассмеялась. Ты знаешь, мне стало легче… Да нет, у меня камень с плеч упал! Наверное, я и пошла на эту переписку, чтобы тот, кто читал листки, испещренные моим мелким почерком, похожим, как говорила моя школьная учительница, на цепочки вороньих следов на снегу, видел не мои голодные глаза блудницы, а мою душу… Господи, спасибо тебе за многоликость любви! За ее редкие проявления, чуждые страсти, разрушительным силам греха и избегающие вожделения. Да, Стеф, я тебя люблю. Люблю твои мысли, твои будни, твои шахматы. Теперь, окажись ты хоть нотрдамским уродцем, при встрече, я расцелую тебя, и запомню каждое мгновение нашего визави. Я люблю тебя за то, что ты смог заставить меня почувствовать Жизнь. Ведь Откровенность, или даже Откровение, в этом Городе столь же неестественное событие, как эдельвейс в лунном кратере. Вчера поздним вечером я возвращалась домой с прогулки. На мне было норковое манто, подаренное Николасом (я тебе о нем рассказывала?), в руках, одетых в замшевые перчатки, я держала кленовый лист. (До сих пор не могу понять, что за время на дворе - поздняя осень или ранняя зима?). Я почему-то подумала, что это очень выразительно - холодная тьма, фонари, одинокий силуэт дамы, изящные пальцы которой держат лист, похожий на сердце. Образ бы довершила маленькая собачка на поводке, которой у меня, к сожалению, нет. Хотя в этом случае, силуэт дамы не казался бы таким одиноким… Итак, я шла, погруженная в раздумья, вызванные твоим письмом, как вдруг, подходя к своему дому, я увидела, что через одно из окон валит черный дым. Ах, Стеф, как давно я так не пугалась! Ведь я подумала, что горит МОЙ маленький мирок, со всеми его нехитрыми радостями: наигранной целомудренностью, сквозящей в милой обстановке, богемными манерами, китайским веером., раскрытым над кроватью, сладостным ирреальным забытьем репродукций Дали в коридоре и у окна и твоими письмами, Стефан… Я, не помня себя, бросилась бежать. Мысль о том, что ВСЕ ЭТО сейчас плавилось, трещало, сыпалось пеплом и обугливалось, жгла меня стократ сильнее, чем это смог бы настоящий огонь. Растолкав толпу безучастных и почти безмолвных (о безумный Город!) зевак, я уже набрала полные легкие воздуха, чтобы завизжать и кинуться по лестнице вверх - спасать свою Вселенную, как увидела, что горит не моя квартира. Мое окно было черно и безжизненно, (окно же безумной квартиры надо мной тускло светилось, как свеча покойника.) пылал чей-то дом этажом ниже. Из закопченного окна сквозь клубы дыма уже вырывались языки ярко-рыжего пламени. Гнусная толпа молчала. Никто даже не пошевелил пальцем, чтобы помочь. Только легкий, как ветер шепоток пробежал: мол, пожарных уже вызвали… Это было жутко, Стеф: ночь, огонь, как безумная ожившая картина, сыплет искрами из рамы в небо, а внизу - толпа молчаливых зрителей, на лица которых падает красными кляксами страшное зарево. Я заметалась - не знала, что делать. Бежать? Зачем? А вдруг там кто-то есть… Тогда он уже сгорел! Но вдруг… Пока я трусила, от толпы отделилась черная тень и, хромая, побежала к подъезду. Серая кружевная шляпка, шерстяная кофта - я с ужасом узнала мою продавщицу воды - к груди она прижимала два полных кувшина. «Спасайте Бетховена и миледи!» - кричала старуха - «тушите пламя!» Я бросилась ей наперерез и вцепилась в рукав черной кофты только у самых олеандров. Старушка вырывалась и точно бесславно сгинула бы в чужом пожаре, если бы я не опрокинула ее, разбив при этом кувшины. Манто было безнадежно испорчено, но я и бровью не повела. Старая леди обиделась, как ребенок, но под тихие увещевания мне удалось увести ее подальше от опасного места. Толпа внимала. Тем временем подъехал черный кабриолет. Зеваки, как по команде расступились (Тьфу! Это все больше напоминало како-то дьявольский идиотский театр!). Из машины медленно, словно королева, выходила смутно знакомая мне дама. Она зачарованно глядела на пожар, и волосы ее были того же цвета, что и пламя - это была мать пигалицы. А блондин-водитель кабриолета - ее любовник, я знаю. Он всегда сигналит под окнами, когда ее муж куда-то уезжает на пару недель. И тут произошло сразу два события, после которых моя память отказывается построить цельную картину дальнейших моих похождений. Первое - это отчаянный крик рыжеволосой: «Мари! Таам Мааариии!!!» Второе случилось уже словно в полусне - откуда-то издалека, сквозь рычание огня, шелест обугливающихся обоев, треск испепеляемой оконной рамы донесся вибрирующий надрывный звук - это лопнула струна рояля. Черного лакированного рояля, который мучил меня гаммами, мешал мне спать упражнениями, который изрыгал в пространство «Лунную сонату», словно его тошнило квинтэссенцией человеческой любви и печали… Теперь он замолчал навсегда. Я плохо помню, как бежала по лестнице, как вламывалась в хлипкую дверь, помню лишь дым, пустую спальню, пылающие стены и худенькое тельце, скрюченное на пороге объятой огнем гостиной. Это была она - бледная девочка в ночной рубашке. К груди она прижимала обгоревшие ноты, которые успела выхватить из костра, бывшего когда-то ее роялем. Я схватила ее на руки, чтобы вынести из этого ада, но тут меня что-то ударило, и я потеряла сознание. Девочку Мари, еще бесчувственную, забрали у меня импозантные мужчины в касках, спасшие нас и потушившие пожар. Все вокруг перемешалось: Кто-то плакал, что-то грохотало, выла сирена. Ее увезли на скорой. Я чувствовала себя преотвратно, но от помощи отказалась. На ватных ногах я добралась до своей квартиры (слава Богу, вездесущий запах гари в нее не проник), бросила в прихожей безвозвратно потерянное манто, наглоталась таблеток, заткнула уши ватой и всю ночь проплакала. Стеф, она забыла погасить свечи на рояле! Отец ее был неведомо где, мать кутила с юнцом-блондином, а она зажигала свечи и играла сонату глухого и несчастного Бетховена! Нет, не жажда была в ее глазах… Это было одиночество - безответное и лунное, как та соната… Это личико, Стеф, до сих пор передо мной: обескровленное, вытянутое, испуганное. Передо мною эти белые ноты с обугленными краями в ее худеньких ручках… Я пишу и плачу, Стеф… Не знаю, что и говорить…. Удачи тебе. Может мы и не так порочны. Анна.
Город скрипящих статуй.
Не знаю, Анна, что и сказать тебе. Тебе повезло, что я пишу это письмо. Или это мне повезло. В доме нет бумаги. Я пишу на салфетках. В доме, тем не менее, полно чернил - я даже разлил один пузырек. На столе неспешно расплывается зеркально-черная лужа. В ней я вижу свое отражение: заострившиеся черты, впалые глаза, пугливо прячущиеся за толстыми стеклами очков. В доме нет ничего. В доме только застывшая густая копоть на стенах и пустые пузырьки от корвалола. И чернильные ручейки, вползающие в комнату из дверных щелей, из-под плинтусов, из треснувшего чайника с годами гниющей заваркой. Протертые до дыр мои холостяцкие тапки, мерзко причмокивая, сами бродят по квартире, с нездоровым интересом запрыгивают в цент растекающейся на полу непроглядно-фиолетовой лужи. Резвятся в фейерверке рассыпающихся брызг. Один тапок нерешительно останавливается, оборачивается, чтобы спросить у меня, своего хозяина, позволения уйти в самоволку. Он робкий и выглядит еще совсем новым, почти сохранил свой первоначальный окрас. Зато другой тапок - матерый волк. Устремив дырявый нос к входной двери, он уверенно продвигается к своей цели, обходя преграды и не спотыкаясь о валяющиеся как попало громоздкие медицинские справочники. Первый тапок пока колеблется, но, несомненно, подчинится. Он слабенький. Закончился корвалол. Какого? Слышишь, какого дьявола? Почему, почему вчера приехали все эти люди? Мой единственный вечер, несколько часов блаженства, неизмеримого и беспечного счастья, нектара пьянящей мелодии, волн дурманящего аромата лакированного дерева…. Мой единственный - больше шанса не представится. Могучий черный монстр с распахнутой пастью, в которой угрожающе поблескивают струны-клыки, повергнут в прах. Мой Цербер, страж, хранящий врата ада, чье рычание есть сладчайшая музыка - он мертв и мертва, мертва, мертва, мертва его прелестная хозяйка. Пришли большие люди со злыми глазами и толстыми своими ножищами в сапожищах растоптали мою светлую мечту. Она была одна, и ей было одиноко. И ей хотелось играть. Она зашла и несмело, не надеясь, что я соглашусь, предложила зайти к ней - послушать Бетховена. Я сказал, что люблю Бетховена, и принял приглашение. Энни! Она улыбнулась, так улыбнулась, такую огромную душу вложила в свою эту детскую улыбку, что … что… у меня даже прошли печеночные колики. Моя грустная пугливая нимфа, моя вечно юная Геба, ангел мой непорочный! Можно ли было мечтать о подобной милости?! На ней не было ничего, кроме полупрозрачной ночной рубашки. Худенькие ручки бережно подняли крышку рояля, тонкие пальцы пробежали по клавишам. Она расправила плечики, выпрямила спинку и начала. Несмелое арпеджио, звуки, словно вырывающиеся из многолетнего плена, влекут за собой другие - обрывочные ноты, как крики улетающих птиц. Птицы не вернутся, многие погибнут в пути, другие постареют раньше времени и, не в силах более продолжать путь, покорно сложат крылья и, кружась, все так же в ритме несмелого арпеджио, начнут плавно падать. Падать, скрываясь под облаками, падать до тех пор, пока не исчезнут из виду. Птицы падали и вспыхивали на земле маленькими пожарами, огоньки разгорались, сходились и дальше горели вместе. Она играла с закрытыми глазами, я слушал и грезил наяву. Погребальные костры умерших птиц полыхали под моими ногами. Меня бил озноб, и кровь бушевала в висках. - Уходите, - сказало мое прекрасное видение. - Скоро вернется мама. Но я не ушел. Не ушел я и тогда, когда она, с удивлением посмотрев на шевелящийся от огня пол, негромко вскрикнула и начала медленно оседать на землю. Она закатила свои волшебные прозрачные, как горный хрусталь глазки и только перед самым падением успела дрожащей ручкой схватить с пюпитра свои драгоценные ноты. Я не уходил. Я остался любоваться ею, лежащей на ковре пламени в позе новорожденного и с таким же безмятежным лицом. Я бы не ушел. Я бы остался с нею до самого конца, до тех пор, пока огненная трава не выросла бы в лес. Она бы проснулась, и мы ушли бы с ней вместе гулять по бесконечному этому лесу, без конца, бесконечно счастливые, бесконечно…. Но затем пришли эти люди. И еще та женщина. Она кричала что-то невразумительное. Глупая женщина, черствая как хлеб на моей кухне. Кричит, нарушает очарование этого единственного вечера, обрывает мою чудную сказку. Хорошо, Энни, что ты не такая. Ах, почему пришли эти люди?! Я еще напишу тебе, Энни. Потом. А сейчас - прости - пойду догонять сбежавшие тапки, а то других у меня нет. Не пропадай, Энни, не пропадай, пожалуйста. Твой Стеф.
Город скрипящих статуй
Здравствуй, Анна. Ты, наверное, не хочешь больше и слышать обо мне после всего того, что я натворил. Ты, наверное, не та, за кого себя выдавала. Я думал, ты поймешь меня, не осудишь. Но нет. Нет, нет и нет. Нет на этой земле человека, который бы понял! Я наивный глупец, я нелеп и смешон. Я паяц, я грустный клоун. С меня сорвали одежду и посадили в клетку, а клетку подвесили на руку самой большой статуе на центральной площади в наставление общественности. И эта тупая общественность, от которой за милю веет едким потом и неприязнью, улюлюкает и ржет, и швыряет в меня огрызки яблок. Бетонные чайки с глухим криком дохнут прямо в небе… Я не смею пошевелиться из страха, что пролетающий гранитный голубь нагадит мне на голову. У каменных птиц дерьмо тоже каменное. И больно бьется. А по ночам скрипят суставами статуи. Мускулы на каменной руке гиганта напрягаются, сдавливая старые кости. Моя клетка покачивается, как спелый плод на ветке. А я… Ты думаешь, мне страшно? Ничуть. Мне, дорогая все равно! Я теперь не боюсь этих мраморных идолов, я боюсь живых и подлых людей из плоти и крови. Вроде тебя. Меня обвинили в покушении на убийство и в сексуальном домогательстве. Когда следователь произнес эти слова, я рассмеялся. Нет, рассмеялся – это не то слово. Я расхохотался, чуть не впал в истерику. Меня! В сексуальном домогательстве по отношению к этой малышке! Если бы еще мне вспомнили того рябого подростка, которого я однажды завел домой, обещая со скидкой продать «корабль», и которого я потом… Ну, ты понимаешь. А девчонка, это уж совсем никуда не вписывается. Определенно, безгранична глупость человеческая. Я, кстати, так и заявил следователю: извините, но ваши обвинения беспочвенны, потому что я, видите ли, голубой. И снова засмеялся. От гордости. Но следователю не понравился мой смех, поэтому сейчас мои заплывшие глаза не очень хорошо различают буквы, а в голове еще отдаются звуки ударов. …А толпа все визжит, все надрывается. Свора голодных псов, гиены, жрущие падаль, подонки… И ты, Анна, одна из них! Произношу твое имя, Анна, и сердце разъедает обида. Только обида пока что, я еще не научился тебя ненавидеть. Анна, Анна, Анна…. Я страдаю и наслаждаюсь своими страданиями: воспоминания о тебе приносят мне боль и радость. Я закрываю глаза и вижу твое прекрасное лицо, твои бездонные глаза, я представляю себе твое алебастровое тело… Ты была именно такой в моих прежних видениях, тогда, когда я тебе еще верил. Ты была самой непорочной, самой добродетельной женщиной в мире. Я плевать хотел на то, что ты там плела мне про своих кавалеров! Я был уверен, что знают тебя лучше, чем ты сама себя знаешь. Я держал в руках волшебной чистоты алмаз и беззаботно любовался игрой света на его гранях. Но алмаз оказался фальшивкой, милая моя Анна, фальшивкой! Ты предала меня, ты бросила меня не когда-нибудь, а именно сейчас, когда мне больше всего нужна поддержка. Я так хочу спать. Знаешь, Анна, я уже много лет не могу спать на спине. Как только мои лопатки касаются простыни, я чувствую шевеление под ней, что-то двигается, ползает и скрипит. Или не скрипит, но звуки издает гадкие. Ты когда-нибудь давила ногтем таракана? Вот. Звук трескающегося хитина. Чавканье бесстыдно открывающейся плоти. Хруст сжатых в предсмертной конвульсии челюстей, шорох опадающих наземь, рвущихся усиков и лапок, журчание ручейка теплой жидкости. Здесь грязные простыни, от которых пахнет мочой и страхом, совсем как у меня дома… Я каждую ночь боюсь, проснувшись, обнаружить, что раздавил миллионы маленьких существ, живущих подо мной. Я боюсь увидеть, что лежу в луже стремительно темнеющей густой жиже. Я ждал твоего письма те три недели, пока я был дома. Потом у них то ли появились какие-то доказательства, то ли побоялись, как бы я чего с собой не сделал, не пойму. В общем, заперли меня в следственном изоляторе. Там где запирают особо опасных рецидивистов. Получается, я особо опасен. Вот уж не думал, что скажу о себе такое. Я послал тебе пустой конверт с новым адресом. Сюда можно писать. Писать можно, но ты не пишешь все равно. Почему? Почему, Анна? Если бы я знал, что хоть один человек ждет меня, что моя жалкая жизнь хоть кому-то нужна… Да я бы горы свернул и заставил реки течь вспять. Я бы смог, я бы сделал. Я бы вырвался из этого заколдованного круга, я бы победил своих ночных демонов, не стал бы больше пить с ними абсент, не одуревал бы от запаха горящего сахара и лауданума. Ах, если бы да кабы… Я не прощу тебя, Анна. Никогда не прощу. Никогда. Прощай, подлая тварь. Стефан
Город пересохших фонтанов
Иисус сказал: «Спасись сам и вокруг тебя спасутся тысячи.» Кто эти тысячи, Стеф? Да разве хоть бы один ты принял у меня из рук Спасение? И, наконец, где оно – мое Спасение? Мне снится твоя квартира, Стеф, твои тапочки, слепо тыкающиеся во все углы. Иногда ночью мне кажется, что они бродят по МОЕМУ дому…Шлеп-шлеп – из кухни в прихожую – шлеп-шлеп – из прихожей в ванную. Как же это смешно, Стеф, смешно и страшно, что наши с тобой жизни, запертые в серых стенах и горьких мыслях, истекают так одинаково, словно мы с тобой рядом, до противного рядом. Мы – словно эти одинокие тапочки, бесцельно шаркающие по линолеуму – ходим всю ночь отпущенного нам времени, и не находим друг друга. А вокруг пылают пожары. Мне видится в полной луне чье-то лицо. Оно принадлежит некой женщине, усмехающейся мне в глаза. Она словно говорит мне: «Мене, мене, текел». … «Ты была взвешена и найдена легкой…Весы в чистилище работают без сбоев…Ты была найдена легкой, ты вообще не была найдена, и тебе не видать Царства Божьего, стареющая дура» В последний раз я молилась лет в восемнадцать. Просила Бога, чтобы стерва Агнесс, которая отбила у меня первого в жизни мужчину (его звали…Иеремия… Да, точно, Иеремия), завалила вступительные экзамены в Литературный институт. Бог услышал мои молитвы. Но я тоже с треском провалилась, и с тех пор моя мать потеряла к моей жизни всякий интерес, а я навсегда возненавидела Докторов Наук - ОН был первым и последним представителем этой проклятой лживой касты нашего мерзостного общества, с которым я позволила себе иметь сексуальные отношения ради карьеры. Ты прав. Ты как всегда прав. Я – подлая тварь, настоящая женщина. Окна замерзли. Солнце скрыли тучи, и ярко-желтый свет не играет в переплетениях ледяных кристаллов. В Город пришла зима. Опять. Внезапно. Трубы проклятых фонтанов обледенели и полопались. Теперь серые мерцающие гейзеры усыпают острыми ледяными крошками улицы Города. Теперь это мерзкое шипение повсюду, у самого моего дома, там, где цвели олеандры, из-под земли бьется струйка песка… Зима приносит в Город новые желания. Люди очень любят контрасты. Белый свет и черный уголь. Белый снег и что-нибудь яркое. Например, кровь. На прошлой неделе они подвесили клетку с каким-то бродягой на один из неработающих фонтанов. Кто-то бросил в бродягу камень и рассек ему лоб. Три капли крови упали на снег. Сначала одна, потом другая. И третья. Кап-кап. На белый снег. А бродяга молчал. Он был какой-то высохший, а глаза его ввалились, как будто он выплакал всего себя. А может, он наркоман. Я растолкала толпу и ушла домой. А он не придет, Стеф. Тот, ради кого я попыталась тебя забыть. Ради кого я перестала писать тебе письма. Шея затекла, но я не поверну голову. Он постучал в дверь, когда март растекался по городу грязными лужами. Я надела в тот день черную блузу, сделала себе кофе с ромом и читала Рильке в гостиной. Но тут он постучал в дверь. Он был обворожительно бледен, закутан в зеленый безразмерный плащ, а в его зубах цвета слоновой кости танцевала дешевая сигарета. Он спросил, можно ли войти, я ответила, что можно. За ним протянулся шлейф зловонного дыма. На туфлях у него была грязь, но он со скучающе-наглым видом, не разуваясь, прошествовал по моим арабским коврам. Словно Кир в Вавилонский дворец… С первого взгляда на него я поняла, что передо мною мужлан. Всклокоченные волосы, грязные ногти… Он предъявил мне какой-то документ в красной корочке и попросил называть его Т. Д. Инос. Т. Д. Инос долго беседовал со мной о Мари, о ее родителях, о других соседях. К сожалению, я не смогла вспомнить других соседей, кроме похотливого старика, который отдал Богу душу от пьянства полгода назад. Потом мой странный гость заговорил со мной о каких-то наркотиках, каком-то лаудануме. Он почему-то поинтересовался, не пахло ли в подъезде жженым сахаром. Я ответила с улыбкой на лице, что да, пахло. Еще бы! Этот запах раздражал меня, и теперь я понимаю, почему. Моя мать давным-давно, в другом мире, становилась у плиты, опухшая, некрасивая, злая, и начинала делать леденцы из расплавленного сахара. Зачем она их делала, я до сих пор не знаю – никто никогда в нашем доме не ел эти пережженные мерзкие комочки на деревянных палочках, и они всегда рано или поздно отправлялись в мусорное ведро. Этот запах стал мне мерзок, как напоминание о несостоятельности, об ущербности моей семьи, о моей ущербности. И теперь, когда этот странный и притягательный следователь Инос узнает о гадко-приторном запахе на лестничной клетке, он арестует того, кто жарит сахар день-деньской в своей грязной кухне… Я сделала ему кофе с ромом, но он не пил его. Он оставил свою визитку и ушел. А я осталась – в черной блузе, с Рильке, заложенным прокладкой на восемьдесят четвертой странице и запачканными арабскими коврами. Черт подери, мне не хотелось их чистить.! Эта грязь – высохшая земля (земля без крупицы песка!) была залогом его возвращения в мою убогую комнату. Будто он оставил частицу себя для одинокой дуры Анны, у которой из духовной жизни есть только лишь стопочка писем… Я пригласила его на следующий день по телефону. Я надела легкое воздушное платье, накрыла стол на двоих, налила вина, поставила «Болеро» Равеля… Он пришел и странно молчал. Глядел на меня. Потом пил со мной вино. Потом было «Болеро»… И снова «Болеро»… Но он не танцевал со мной. Он просто взял меня без поцелуев, грубо. Схватил меня, как тряпичную куклу, повалил, и это было мучительно… мучительно сладко. Да, я подлая тварь, нуждающаяся в самце, я – грязная девка, я – женщина. После этого вечера, Стеф, я отвергла тебя. Я, глупая маленькая девочка, думала, что наконец-то пришла любовь, будто мне снова девятнадцать, будто я снова не вижу голодных бесовских глаз этой любви. А пыльная горка писем от одинокого человека, от моего друга Стефана – это мост, связывающий меня с берегом моего страха, моей жажды, моей глупости. С берегом моего грустного и одинокого прошлого. Я захотела, чтобы это прошлое стала чужим. Я пожертвовала тобой, Стеф, суди меня. Прости меня. Просто передо мной впервые в жизни брезжил рассвет… Я виделась со следователем три раза в неделю. Я любила его. Первый раз… Я ходила с ним к Мари в больницу, Мари лежит в коме. В руки ее вставлены иглы, иглы - в трубки, а трубки – в сосуды. Личико у нее ангельское. Я плачу ночами, когда мне снится это лицо. А еще, вечером возле койки Мари садится ее мать и читает ей вслух. Один раз я застала ее. Она читала Экзюпери: «…мы всегда в ответе за тех…». Я спряталась в тени, возле двери и слушала. Но потом пришел Инос, выкуривший уже полпачки своих мерзких сигарет на крыльце, взял меня за локоть и увел. Потом у подъезда моего дома он поцеловал меня и удалился. И больше не появлялся. Его телефон не отвечает, Стеф. Мне больно, шея затекла, но я боюсь повернуть голову. Я лежу в ванной, Стеф. Он не придет. Я пишу правой рукой письмо. Левая - под водой. Вода красная. Я боюсь повернуть голову, Стеф. Прости меня, Стеф. Прости меня. Ты – все, что у меня было. Я ухожу, Стеф. Прости меня. Он не придет. Не придет к вечно твоей Анне.
P.S. Он пришел, Стеф. Он вышиб дверь и бил меня по щекам. Потом вез куда-то… На руке одиннадцать швов. На левой руке, на правой швов нет. Я уже дома. Инос уехал. Они там кого-то судят. За домогательства к маленькой девочке. Боже, каким скотом надо быть, чтобы изломать судьбу ребенку! Я бы убила такого человека. Внутри меня пусто. В трубах дома шипит песок. Прости меня, Стеф. Прости меня. Но ты нужен мне, подлой твари.
Анна.
Город скрипящих статуй
Отстань, Анна. Нужен я тебе, да? Зачем, милая? По-моему, ты цепляешься за соломинку, за миф, за воспоминание, за выдуманный образ человека, который никогда, по-настоящему не существовал. Не было никогда этой спасительной гавани, не было мечтательного юноши, которого так хотелось защитить, спасти… Все потому, что он боялся спать по ночам один. Потому что его преследовали кошмары: ожившие истуканы приходили по его грешную душу, скрипя раздутыми от артрита суставами, царапали ему спину крошащимися старческими ногтями. Потому что он был не таким, как все, любил не то и не тех, что все любят. Ты писала ему длинные красивые письма, а он отвечал тебе галлюциногенной чепухой, которую ты принимала чуть ли не за божественное откровение. Ты, Анна, дура. Да-да. Ты, Анна, ничего не понимаешь. Меня вышвырнули из медицинского института еще в прошлом году, за то, что я с завидной периодичностью не посещал занятия. Ну, не мог я вынести этого гнилостного запаха! Не мог смотреть в глаза преподавателям, в эти глаза некрофилов и убийц. Однажды нас повели на вскрытие. Так меня там вырвало. Не от вида крови или развороченных кишок – это ерунда. От того, что наш патологоанатом достал из тела трупа (а это была женщина) что-то маленькое и скрюченное и начал, держа это в руке обтянутой резиновой перчаткой, объяснять нам, как эта женщина умирала от интоксикации организма мертвым плодом, почему не было выкидыша и тому подобное. Когда до меня дошло, что же он держал в руке, меня стошнило картошкой фри прямо на ноги трупу. К чему я все это рассказываю? К тому, что я и есть этот зародыш. Я умер, не успев родиться, не сделав в этой дерьмовом мире ничего хорошего, а только нагадив в него еще. У меня даже мозг еще не сформировался, а я уже источаю яд. Меня еще не создали, а я уже разрушаю. Нарушая все законы природы, презрев все человеческие ценности. Анна, ты дура, потому что со мной связалась. А я сволочь, потому что позволил тебе это. Вдруг ты тоже заразилась от меня этой чумой равнодушия и безнадежности? Мне впаяли на полную катушку: продажа и распространение наркотиков, сексуальное домогательство и покушение на убийство, итого двадцать лет. Двадцать лет! Одна ночь тянется здесь вечность, а они говорят двадцать лет. Ну и черт с ним. Наплевать. На все наплевать. И на тебя, кстати, тоже. И еще, Анна, ты дура, потому что не довела начатое до конца. Тебе надо было умереть. И умереть именно так, как ты собиралась, то есть захлебнуться в окровавленной ванне. Уйти под воду с головой так, чтобы никто и никогда больше не видел твоего лица. Ты зря не умерла, милочка, это лучший выход для тебя. Влюбилась, говоришь? Ну, ты и дура, Анна! В следователя? Валяй, люби его, жди его, корми его миндальными пирожными и пои его мадерой. Стирай его носки и чисти щеточкой плащ, и снова жди. Придет, не придет, как ромашка. Хочешь этого? Если да, тогда меня и правда никогда не существовало, а писала ты почтовому ящику. А если не хочешь, но продолжаешь в том же духе, тогда, Анна, ты дура. И отговорки, вроде «я не могу иначе», «он меня околдовал» или «не самый, в конце концов, плохой вариант» оставь для кого-нибудь другого. Точно, это идея! Найди кого-нибудь другого партнера по переписке. Дай объявление в газету. «Красивая, сексуальная, образованная женщина без вредных привычек ищет мужчину, красивого, сексуального, образованного, без вредных привычек, для создания крепкого эпистолярного союза. Наркоманов, гомосексуалистов и педофилов прошу не беспокоить. Интим и распространение не предлагать». А мне больше не пиши. Я не отвечу. Завтра меня переведут в мою камеру, там, где, по их словам, мне предстоит провести ближайшие двадцать лет. Они это говорят и смеются. И я тоже смеюсь над ними, зная, что проведу в этой вонючем каменном мешке максимум неделю. Им не нравится, что я смеюсь, и они меня бьют. Ерунда, я привык, да и это не имеет никакого значения. Даже если они изобьют меня до бессознательного состояния и отправят в лазарет, там мне еще проще осуществить задуманное. Да, и если тебе это все еще важно, то я тебя простил. Я всех простил. Даже этого предателя, этого нахала в зеленом плаще. Подонок, он оказался шпиком! А нам было так хорошо вместе…. Что-то я стал излишне сентиментальным. Ты еще чего доброго подумаешь, что все это имеет для меня какое-то значение… Ладно, Анна, надоело мне писать. Если ты еще не усекла, повторюсь: катись ко всем чертям со своими письмами и иди семимильными шагами сама знаешь куда… Вот теперь я говорю тебе «прощай». Настоящее роковое, бесповоротное, свинцовое прощай. Такое прощай можно сказать только однажды, когда обратного пути уже нет и все мосты сожжены. Прощай. Стефан.
Город Пересохших Фонтанов
Стеф… Ну не говори так… Неужели все так плохо? Двадцать лет… Ведь это ошибка? Ведь это все глупый нелепый курьез, над которым мы с тобой – когда-нибудь, встретившись у моря в мраморной беседке – будем смеяться, попивая коньяк… Я уже предвкушаю эту нашу встречу. Представляю, как ты в белом парусиновом костюме, гладко выбритый, сидя в плетеном кресле, будешь время от времени восхищаться синими фиалками, которые будут стоять на столике, и задумчиво покуривать толстую сигару, а я, черт побери, тоже в чем-нибудь белом и шикарной шляпе с бумажными цветами на тулье, буду грациозно держать бокал всей ладонью и заливисто хохотать в ответ твоим шуткам. В пяти минутах от нас будет шептать и перекатывать по дну морские звезды ласковое теплое море, и будет казаться, что солнечный день повис над нашими головами круглым зонтом навсегда, что впереди – только смех и тихие беседы, целомудренные поцелуи и детские клятвы в чем-нибудь вечном… Мой супруг Инос будет нянчиться в это время с нашей малышкой, ожидая, когда же я наконец наговорюсь со старым другом. Наши соседи, родители Мари, будут готовить на вечер барбекю, подумывая, а не пригласить ли им с Анной этого хорошего парня Стефа. Вечером будет барбекю, крикет, веселье, коньяк, и Мари, зрелая красивая девушка, будет играть на новом рояле что-нибудь печальное, а над ней будут перемигиваться звезды… Ну не говори так… Ведь не все так плохо?... Я предвкушаю нашу встречу и поэтому я пью. Пью, пью… Откуда у меня, черт побери, берется эта водка? Ах да, это водка Т. Д. Иноса, моего мучителя… Первый ящик подходит к концу. Он стал иногда жить у меня, Стеф. Приходит злой, молчаливый, а я, как райская птица, пою, распространяя вокруг себя ауру домашнего уюта. Я даже начала мыть кафельную плитку в ванной. Хоть и редко – я боюсь туда заходить. Ах, столько дел появилось! Я много стираю – уже не крашу ногти в алый цвет. На моих руках вздулись вены, у меня всегда болит голова, моя бегония засохла. Я разбила мамину вазу – это было последнее, что у меня от нее осталось… Ах, столько всего случилось! Ну вот, опять я плачу. Я уже не ставлю «Болеро» Равеля, Стеф. Я слушаю только вой ветра за окнами и шипение фонтанов. А вчера я сильно напилась и рассказывала Иносу о тебе, о твоих письмах, о том, как мне жаль, что мы с тобой не виделись, а он сказал мне: «идиотка», и сильно бил меня, даже вывихнул себе руку. Потом он меня изнасиловал. Что я ему сделала? Почему же я – идиотка?... Да. Да! Он меня насилует! Зачем он появился в моей жизни?! Я –шлюха! Шлюха! А ты, грязный извращенец, сейчас сидишь в своей камере, которая во много раз больше и светлее моей проклятой квартиры, и ухмыляешься, злорадно думая о том, что Энни получила жизнь, которую заслуживала! Получила! Да, ты прав, черт тебя дери!
Мне так плохо, Стефи… Я так хочу спать… Я хочу выйти из дома, но он запирает меня на ключ. Любви нет, Стефи. Как смеют люди рождать детей, если любви нет? Как там… «зеркала и соитие отвратительны, ибо умножают сущее?» Мне так не хватает твоих писем, Стеф. Надо было сжечь себя вместе с ними. Они так нехотя горели, Стеф… Ха-ха-ха-ха! Они обугливались медленно-медленно, как я тогда взрезала себе вены, как ползли под пулеметными очередями пленники Собибора – у меня там умер дядя… он, глупенький, наполз грудью на мину… Меня тошнит, Стеф… Ответь мне, пожалуйста… Я не хочу «свинцовое прощай». Я хочу получить письмо от моего Стефа. Анна.
Город Пересохших Фонтанов
Здравствуй, Стефан. Как поживаешь? Хотя нет, не отвечай, я понимаю, тебе, наверное, там так плохо... Инос говорил мне когда-то, что в тюрьме очень не любят гомосексуалистов… Держись, Стефи, не давай слабины этим…этим плохим людям. Ведь ты сильный, мой Стеф, я знаю. Ты не ответил мне? Или письмо затерялось? Или ты не смог? Не успел? Ты умер? Ты жив? Мне не все равно, Стеф. Мне настолько не все равно, что я, наверное, точно умру без тебя. Хотя нет,…дитя… Я послала тебе письмо давно. Даже не знаю как давно… Здравствуй, Стефан, здравствуй, мой хороший. А у меня новости – он попросил переоформить квартиру на него, и я согласилась – ведь он такой грустный, ему, оказывается, негде жить, он жил в своей прокуренной конторе, плохо жил. А со мной ему будет хорошо. И мне будет хорошо. Он бьет меня теперь так редко… Наверное, потому что я на прошлой неделе нечаянно чиркнула ему по плечу ножом для резки хлеба… Чирк! Ножом! Ха-ха-ха-ха-ха. У меня будет маленький. Я очень хочу, чтобы это была девочка… Когда я ложусь спать, я прислушиваюсь к этому комочку под моим сердцем, но ничего не слышу. Мне снятся сны, будто он или она лежит, замерев и обхватив мое сердце ручками и ножками, боясь потерять опору, боясь открыть глаза, боясь всего не свете, будто жизнь течет не в моем теплом чреве, а в городе страшных Скрипящих Статуй, жутком, одиноком городе, где на расстоянии протянутой руки люди не видят друг друга, не чувствуют запаха друг друга, не слышат, не осязают, где каждый – один, один – боящийся, жаждущий и вечно плачущий от страха и жажды. …Ах нет, я забыла – в воскресенье у меня были схватки, он забыл меня запереть и я ушла в больницу. Это было неимоверно трудно – идти через шесть улиц, когда больно, когда юбка промокла, но я смогла, Стеф, я улыбалась сквозь слезы… и медицинская сестра Грета, когда меня уложили на койку, сказала, что я похожа на Мадонну… я похожа на Мадонну! Инос говорит, что мой ребеночек сдох, но я-то знаю, знаю, что он просто родился слабеньким и сейчас он в больнице – его выхаживают, чтобы потом отдать мне. В больнице мне его не хотят показывать – наверное, думают, что я против правил пожелаю забрать его (это мальчик!), но я же понимаю, что он должен набраться сил, мне бы только поглядеть на него… Но эскулапы непреклонны. Пусть, пусть… Ах, недавно я была у Мари! Долго сидела возле нее – бледненькой, маленькой, опутанной трубками, и говорила с ней. О чем? Ни о чем. О чем без слов говорят матери и дети? Она улыбалась, и я рассказала ей сказку об Эльзе и Звездах, которую я написала однажды на кухне одной кафешки, где работала официанткой пять лет назад. Хочешь, я расскажу тебе эту сказку? Это, конечно, графоманство, но я когда-то всерьез верила, что смогу стать детской писательницей, как Астрид Линдгрен, и моим именем назовут астероид…
Эльза и звезды Эльза с детства верила в фей. Еще маленькой девочкой, жуя мятные пряники, она наивно полагала, что их ей приносят на письменный стол премилые воздушные существа со стрекозиными крылышками за спиной. Родители всячески подливали масла в огонек детских заблуждений, и Эльза, вдохновившись очередной порцией лжи, устраивала облавы на гипотетических фей: увечила бутоны садовых цветов, сидела в засаде у старого пруда, ставила по дому мышеловки, в которые всегда попадался ее отец, даже зачем-то вытряхивала старые чулки на чердаке. Всегда она носила с собой тетрадку, где кривыми буквами выводила: «За комодам фей нет», или «В гладиолусах фей нет.» Иногда Эльза отчаивалась, и у нее случались психозы. Но феи знать не желали ни про какие Эльзины психозы, и упрямо не появлялись. Мама дарила Эльзе апельсиновую тянучку, говорила, что у фей выдался тяжелый день и они познакомятся с Эльзой позже. Эльза вытирала слезы, и шла играть с подругами. А вечером она открывала ставни окна и глядела в театральный бинокль на звезды. Да, Эльза ведь очень любила звезды! Она и хотела поймать фею не для того, чтобы заиметь себе целый воз пряников, а для того, чтобы отправиться на какую-нибудь звезду. Эльза часто видела во сне свой звездный домик. Он был очень белый, чистый, вокруг него был разбит сад с апельсиновыми деревьями, на подоконнике одного из его окон сидела звездная кошка Старри, а она – Эльза встречала у ворот звездных жителей – улыбчивых, теплых на ощупь, в красивой одежде. Эльза представляла, как будет ею гордиться мама и миссис Беркни – школьная учительница. Когда дома соберутся на бридж мамины подруги, мама как бы невзначай укажет на небо и скажет: «Ах, как же там моя Эльза живет на звезде?» А миссис Беркни будет иногда кивать на окно класса, и говорить задаваке Бриджит: «Ах, дорогая Бриджит, если бы вы не обижали Эльзу, то, наверное, тоже жили бы сейчас на звезде…» Эльза часто пыталась выбрать себе звезду, на которую она покажет случайно пойманной фее и скажет:”Хочу ТАМ жить.” Но звезды всегда становились по-разному, и каждую ночь были новыми. У Эльзы под биноклем начинали слезиться глаза, когда она, наконец, выбрав самую яркую звезду, желала ей спокойной ночи, и отправлялась в постель.
Феи так и не появились.
Эльза была совсем взрослой, умудренной годами женщиной, когда вдруг заметила, что сама стала феей. Это случилось внезапно, когда Эльза возвращалась на машине со своей престижной и высокооплачиваемой работы, и, задремав на заднем сиденьи, она не успела воскликнуть даже “Черт побери!” (она очень пристрастилась к этому выражению и часто восклицала: “Черт побери!”) как обнаружила, что стала феей. На ней было розовое воздушное платье, серебристые туфельки, маленькая коронка на голове. За спиной трепетали два прозрачных крыла, а в руках была маленькая волшебная палочка. Эльза очень удивилась, и ,спасаясь от суеты, которая почему-то началась вокруг, расправила крылышки и поспешила куда-нибудь улететь. Вечерело. На улицах зажигались фонари. Эльза, как-то странно себя чувствуя, летела по проспекту, но люди ее не замечали. Ей стало обидно и она заплакала, опустившись на ветку вяза. «Черт побери!»,- сказала Эльза сквозь слезы «Я им не нужна! Почему же феи носят детям пряники, если к ним так относятся?!» И Эльза решила отправиться на звезду. Все равно на какую. Она примерно прикинула чудесную силу своей палочки и взмахнула ею. Эльза тут же оказалась на звезде. Это было ужасно. Ничего общего с детскими мечтами. Тут был только жуткий белый огонь и больше ничего – ни о каких домиках и жителях говорить не приходилось. Эльза очень, очень расстроилась. Она ходила по раскаленной поверхности взад-вперед, звала звездных жителей, но ответом ей было только гудение огня. Вокруг была чернота, и в ней – такие же кошмарные звезды. Эльзе вдруг почему-то захотелось мятных пряников. Она взмахнула волшебной палочкой и обомлела: ПАЛОЧКА ИСТОЩИЛА СВОЙ РЕСУРС ЧУДЕСНОЙ СИЛЫ. И СЛОМАЛАСЬ. Все. Эльза опустилась голыми коленками на пламя и зарыдала. - Не плачь, -говорили звезды. - Ты привыкнешь, - говорили звезды. - Успокойся, - говорили звезды. - Сколько можно? - говорили звезды. - Ах, Эльза, Эльза,- вдруг сказал кто-то. Эльза посмотрела, и не поверила глазам: по серебряной лестнице к ней спускалась звездная кошка Старри. Старри подошла к Эльзе и проникновенно сказала: - Ах, Эльза, Эльза, если бы вы не были такой задавакой, то были бы сейчас на земле, с Бриджит. Эльза обняла кошку, и они обе заплакали. Эльза не имела понятия, где феи берут новые волшебные палочки…
И когда я закончила рассказывать эту глуповатую, грустную сказку Мари, я с ужасом услышала знакомое шипение, Стеф. Подняла взгляд и остолбенела: по трубкам из бутылей вместо лекарств струился песок! Серый, сухой, он высыпался прямо в вены моей Мари, моей любимой дочери Мари! И Эльза и звезды – все померкло передо мной, во рту стало сухо, на голове зашевелились волосы – а Мари…Мари была мертва. Уже давно мертва. Я читала сказку трупу… Я, не помня себя, бежала, скатывалась по ступеням, снова бежала, летела, падала. День был или ночь, я не знаю – у меня перед глазами сыпался песок и горели звезды. Я вбежала в свою (уже не совсем свою…) квартиру, кричала, кричала, плакала…
Чудесная вещь – пожарная лестница. Никогда больше не буду недооценивать пожарные лестницы. Он опять закрыл меня, Стеф. Он, глупенький, не знает, что в открытую, но опечатанную полисменами квартиру этажом выше, можно попасть через люк по этим шатким, ржавым ступенькам… Я так хотела уйти из дома, так хотела вырваться… И я ушла – вверх по лестнице, на маленький балкончик, загаженный птицами и окурками. И я посмотрела вниз: странно – всего на этаж выше, но каким же иным мне показался Город – когда я глядела на него из своих окон, он казался мне унылым, теперь же я увидела страшную беспробудную тоску; он казался мне слишком тихим, теперь я видела, что он вымер, он пугал меня, теперь я похолодела от ужаса… В комнате было все перевернуто – книги из перекосившихся шкафов валялись на полу вперемешку с осколками каких-то разбитых чашек. Облезлый стол, с темными потеками на крышке, лежал на боку. Еще в комнате был секретер, а под кроватью с неприбранной постелью в пыли стояла клетчатая доска с какими-то фигурками… И я танцевала. Я пела, мне было хорошо, потому что снова пахло полынью и жженым сахаром (а я когда-то ненавидела запах жженого сахара…). Я совершала замысловатые движенья вокруг стола, кровати, давила осколки фарфора на полу, потому что я чувствовала, что это мой дом, что меня здесь ждали, что каждый дюйм этого странного места глядит на меня, улыбаясь, и зовет остаться, подождать Хозяина, сварить ему кофе и обнять его дождливым вечером. А я отвечала: Да! Да! Стоп. Доска. Я увидела доску – белые и черные маленькие статуэтки стояли друг напротив друга, словно два воинства, словно две руки в черной и белой перчатках, готовые сплести пальцы. Одного пальца не хватало. Мне стало страшно. Пешка. Пить. Песок. Я нашла ее на груди. Шахматы придумали индийцы. Стеф. Анна. Шах. И мат. Я вспомнила тебя и заплакала, упав на кровать. Потом я достала шах-маты. Словно кусочки головоломки…или калейдоскопа… Потом я оборвала цепочку на шее. Ведь это не та самая доска? Я открыла секретер. Там…Город…Скрипящих фонтанов и Пересохших Статуй. Я почти всегда плачу, когда пишу тебе письма, Стеф. Сейчас я рыдаю, выливаю всю себя наружу. У меня, наверное, истерика, поэтому такой неровный почерк… Извини. Я нашла свои письма тебе, Стеф… Я обижена. Меня обидели… Мир раскололся на мириады цветных стеклышек. Мертвое дитя называют выкидышем… Я больше ничего не чувствую. Но ОНИ все еще чувствуют. И самое-самое страшное чувство – жажда. Я знаю. Я испытала это на себе. Я дам ИМ напиться. Я утолю ИХ жажду. Хотя бы чью-нибудь жажду воды я утолю. Я взяла у тебя на кухне графин…Стеф.
Город Скрипящих Статуй
Я не хотел, клянусь. Обещал не писать тебе… И не могу сдержать слова. Но ты не бойся, это письмо будет коротким. Я только хотел напомнить, любимая моя и единственная, несчастная, влюбленная Энни, я хотел, чтобы ты не забывала… меня. Ведь, несмотря ни на то, что жизнь моя была сплошным адом, что по ночам вместо соловьиных трелей я слышал роковое скрипение статуй, несмотря ни на что… Я жил. Вот что я хотел сказать тебе, нежная, чистая, трепетная Энни. Я жил. Или надеюсь, что жил. Нет, не счастливо, не безоблачно, но я жил. Хотя бы одно мгновение. Ведь хотя бы секунду (Господи, скажи мне, что я прав!), но я жил в твоем сердце… Все закончилось, милая, наивная Энни. Тридцать лет, прожиты по сценарию. Тридцать лет, из которых не вернуть ни дня…. Все закончилось, гасите свет… Стефан.
******************************
Из раздела криминальной хроники:
«… Вчера вечером в больнице для заключенных скончался Стефан Д. Ласкало, приговоренный к двадцати годам лишения свободы за попытку изнасилования и покушение на убийство маленькой Мари Брохловски. Поскольку ни родственником, ни друзей, ни даже близких знакомых у Ласкало не оказалось, а полиция не настояла на проведении вскрытия, официальной причиной смерти был назван инсульт. Однако, из достоверных источников стало известно, что Ласкало был доставлен в отделение реанимации с сильнейшей черепно-мозговой травмой, нанесенной, по утверждению тюремных надзирателей, одним из его соседей по камере. Вместе с тем, из его личного дела явствует, что последние две недели Ласкало содержался в одиночке. Остается только догадываться, какие варварские методы использует наша прославленная полиция при допросах. С другой стороны, нельзя ни учитывать и человеческий фактор: Мари Брохловски было всего десять лет, когда Ласкало попытался совершить над ней насилие. Бедную девочку вынесли буквально из пекла. Сейчас она находится в коме, под постоянным наблюдением врачей, и неизвестно, удастся ли им вернуть ее к нормальной жизни. Кто он, человек, который сделал это? И может ли он вообще называться человеком?….»
******************************************
Из личного дневника Теренса Дэйта Иноса. …17 марта. Город N.
Сегодня я вытолкал ее за дверь. Наконец-то и у меня появился дом. Конечно, многое здесь придется изменить – эти ублюдочные обои цвета детского дерьма я пообрываю первыми. Потом эту тупорылую дребедень типа вееров, шизофренических картин и бронзовых подсвечников – все выброшу к чертовой матери. В ее дебильной раззолоченной тумбочке нашел одиннадцать резиновых пенисов. Одиннадцать, мать их так! После изнасилованной и вспоротой старухи в Праге, в шестьдесят третьем, я думал, что не бывает зрелища хуже. Оказалось, бывает. Это зрелище – одинокая баба. Она, наверное, обручалась с этими вибраторами! А бар? Дерьмо, а не бар – ни грамма водки. Даже бренди нет! Все вылью в очко. Я с ней, конечно жестковато поступил. Как сказал бы покойный папаша Инос: «Как-то оно не по-христиански…» но я знаю, что все сделал правильно. Она бы все равно скоро умерла. Недоумочной – разве жизнь? Это как наш инспектор Мормон – когда его в заложниках венские цыгане держали, умом повредился, все плакал, причитал, а как освободили – револьвер попросил, и – пулю в лоб. Вот мужской поступок. Лучше тот свет, чем психушка. Она ведь не дура, что редкость. Просто самая страшная болезнь нашего сраного времени ее сожрала. А я – не мать Тереза, ничего тут не поделаешь. Я – санитар леса, волк-одиночка. Пусть она идет, куда хочет со своими песочными фонтанами, своей идиотской любовью и пусть ее смерть будет быстрой и безболезненной. Жаль, трахать ее было – одно удовольствие… Таких людей, как она и ее дружок педераст-наркоман все больше, вот что хреново. Боюсь я их, я их не понимаю. Пусть бы сидели себе по норам и писали друг другу длинные письма, но нет – они вылазят, хотят любить, быть счастливыми, разносят везде эту жуткую заразу отчаяния и сумасшествия. А в мировом плане Боженьки им счастья как-то не хватило. Ну не могут они быть счастливыми. По определению. Я ничего такого бы не делал, не сгори эта девочка с роялем. А Ласкало, сраного нарика, я засадил поделом, хоть и «разбил ему сердце!», как любит восклицать Анна, читая его письма, и не зная, что это я. Любила восклицать. Работа у меня такая. Я совсем не ненавижу этих людей. Просто я обязан вскрывать и вырезать опухоли на теле общества. К опухолям я отношусь никак – это просто вздутые, гноящиеся куски плоти.
P.S. Анна даже не вспомнила про выкидыш. Когда я ее выпроваживал она твердила всякую чушь о «ребеночке», шахматах и жажде. Хорошо, что я не сказал ей, что Ласкало умер. Будь я проклят… Заглянул в окно – она, чертова идиотка, у дома продает прохожим воду в стеклянном кувшине… Иисус, хоть я в тебя ни хрена не верю, сделай так, чтобы эта женщина попала в рай вне очереди, чтобы напилась там до отвала чистой холодной воды, и больше никогда, никогда не видела песка.
|
проголосовавшие
| Саша Дохлый |
всего выбрано: 29
вы видите 14 ...29 (2 страниц)
в прошлое
комментарии к тексту:
всего выбрано: 29
вы видите 14 ...29 (2 страниц)
в прошлое