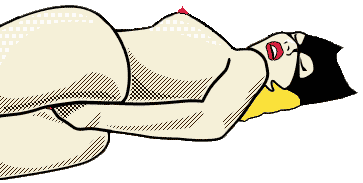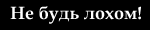В о ф с л а Рассказка
День выдался на редкость солнечный, что для середины декабря просто удивительно. Лос-куты солнечного света бесстыже расположились, развалились рыжими вальяжными котами на полу, столе, заваленном бумагами, стенах, крашенных бледно-голубой краской. Один такой ры-жий солнечный кот решил, что компьютерный монитор - очень удобное место для отдыха: "Я, мол, долго спешил сюда, пробивался сквозь плотные снеговые тучи, сквозь колючие и мрачные ветви спящих деревьев, царапался в запыленное окно, а тут такая красота - тепло, чисто, картин-ки яркие, а я так от этого отвык". Монитор бликует, так что, какая уж тут работа, если ничегошень-ки не видно. Я щурюсь, наморщив лоб, кручу монитор, недовольно ворчу на внезапно выглянув-шее солнце, сетую на то, что кому-то вздумалось на зиму снять жалюзи. День, вернее его полови-на, так как около двух солнце все равно спрячется за домами, потерян. Ни в "Квейк" погонять, ни в "Героев", а уж на всякие фотошопы с корелами и прочие иллюстраторы и вовсе забить придется. - Милочка! К вам обращаюсь, - это говорю уже не я, а весьма колоритная персона, которая настолько тупа, что за полгода даже не может выучить мое имя. Саму ее, кстати, зовут Валерия. – Слушаете?! Этот ваш сайт, за который вам приз дали, я бы сказала – полный ужас и безвкусица. Как вы можете заниматься дизайном чего-либо, если понятия не имеете о золотом сечении. Вы хоть проверяли, как соотносятся высота букв в третьей строке с шириной фотографии? Чего?! Ка-кая еще навигация?! Какая вам разница, все равно красиво, удобно и людям нравиться?! И разве можно на темно-бордовом фоне… как?! Вы хоть о круге Освальда слышали? На фига?! Другие тоже не дураки? Да я вам вот что скажу, вы, дорогуша - полный ноль. И члены жюри конкурса, ко-торый вы выиграли, – тоже полные нули и дилетанты. – Вот так мило, в теплой дружеской обста-новке, мы обсуждаем событие, всколыхнувшее на прошлой неделе наш маленький коллектив. Ну, подумаешь, сделал человек сайт, сляпал, можно сказать, получил за это приз, а его вот так… ладно, не об этом речь. Просто кое-кого задевает, что он, с высшим архитектурным работает про-стым рекламным агентом, а какая -то наглая выскочка – пачками сгребает слонов. Кстати, Валерия росту замечательно высокого. Но я бы сказала безобразно высокого, пото-му, что женщина ростом под два метра вряд ли может считаться замечательной. К тому же она неимоверно худа и узка, как стрекоза. Движения резкие, нервные, походка подпрыгивающая. Идет по коридору, каблуками грохочет. Лицо у нее было маленькое, узкое и злое, а левую щеку украшает большое ярко-розовое родимое пятно, которое Лерочка тщательно запудривает. Одна-ко, к середине дня пудра местами облетает, и лицо Лерочки кажется рябым. Говорит Лерочка редко, но мне, да и, наверное, всем окружающим было бы легче, если бы она не говорила вовсе или была немою. Говорит она, как правило, злые глупые и неприятные вещи, делает всем заме-чания безо всякого на то повода, ругается и ворчит: «Вот я бы на вашем месте…». Да и голос, на-до сказать, у нее очень неприятный – высокий, дребезжащий, словно железом по стеклу водят. Слава Богу, в нашей комнате она появляется редко. В углу между шкафом и стеной сидит мрачный серый тип, заросший по самые уши светло-рыжей бородой. Он аккуратно приходит на работу к восьми, залезает в свой угол и, вперив взгляд в монитор, сидит так восемь часов кряду. Елозит желтыми от табака пальцами с обглоданными ногтями по засаленной клавиатуре, от усердия надувает щеки и щелкает языком. Все называют его Франкенштейн. Конечно, у него есть нормальное человеческое имя, но здесь его именуют Франкенштейн и не иначе. Говорят, что Франкенштейн – гениальный программист и даже был приглашен работать в Америку, но почему-то не поехал. Вероятно, что все дело в его бывшей жене и невыплаченных алиментах. Обычно, Франкенштейн жутко молчаливый и неразговорчивый тип, слова из него не вытянешь. А иногда наоборот, - болтает без умолку, причем так ехидно, с подковыркой. - У тебя сахар есть? – доносится слева гнусавый мальчишеский голос. - Не-а, - мотаю я головой. - А сахарный песок? - Только сахарная пудра, - пытаюсь сострить я. - Ну, я серьезно, - нудит гнусавый, - Я же опоздал. Я сегодня проспал, поэтому не ус-пел позавтракать, погладить рубашку, поэтому пришлось идти в свитере, еще я забыл дома бу-терброды и сахар. Ага. Еще побриться забыл… Вот. - А чо проспал-то? Девок щупал? – послышалось из-за шкафа. - Не-а, футбол смотрел… - И как? «Спартак» по-прежнему чемпион? – хихикнула я. - Нет. Там был, по-моему, чемпионат Испании. А может, Франции, или Италии. Я не разбираюсь, - протянул голос, - Мне это не принципиально важно. И вообще, матч был на ред-кость скучный. А я все смотрел и смотрел. Зачем только такой скучный футбол показывают?! В полтретьего ночи… К чему показывают? - А чтоб ты посмотрел и спросил, - пояснила я. – Телеканал-то помнишь? А то посмот-ри по программе, письмо напиши, зачем мол, показываете скучный футбол и прочую дребедень… - Правильно, лучше порнухи побольше, - подхватил мою мысль Франкенштейн. - Да ну вас… - обиженно прогнусил голос, - Я из-за этого проспал, сахар забыл, бутер-броды… Не побрился… - А я в твои годы, когда в институт опаздывал, говорил, что пожар тушил, а на самом деле мы до утра в общаге квасили, - на пороге возник Яков Палыч, наш начальник. – Больше ты ничего не забыл, Мюнхгаузен?! - Я серьезно, Яков Палыч, я серьезно проспал… - Да мне-то что с того?! – недоуменно спрашивает Палыч, - Ну, опоздал, блин, ладно, я-то этого не видел, вахрушек у нас нет… - Да я сахар забыл, понимаете… Чай не с чем пить. У вас сахар есть? Нет? Жаль… А сахарный песок? Он был маленький, худенький, сутулый и трогательный. Про таких говорят, что он будит ма-теринские чувства. Рядом с ним чувствуешь себя заботливой клушкой. Так и хочется усадить его на колени, утереть нос и, вороша жиденькие темно-русые волосики своей рукой, шептать на ушко милые глупости. Глаза у него большие, влажные и доверчивые, как у теленка. Или как у детдо-мовского ребятенка, который каждой тете, проходящей мимо забора, кричит вслед: «Мама, ма-ма!» Он и звуки-то издавал какие-то детские: то носом шмыгал, то, смешно качая из стороны в сторону головой, бубнил под нос какие-то песенки. Ровно в полдень он обедал. Доставал из верх-него ящика стола большое полотенце в покемонах, расстилал его на столе, разглаживал ладоня-ми, вынимал из сумки бутерброды – один с ветчиной или грудинкой, второй с сыром. Иногда пря-ник и яблоко. На вопрос, что ты ешь, отвечал: «Вареный труп», если ел колбасу или грудинку. Или «кусок протоплазмы» - если это был пряник или конфета. Я, держа руки на горле, сдерживала желудочные спазмы и бежала в туалет, где меня выворачивало наизнанку. После «вареного тру-па» я неделю не могла смотреть на колбасу. Он не курил сигарет, утверждая, что травка куда лучше. Если речь заходила об алкогольных напитках, яро критиковал «буржуазное пойло» навроде коньяка и виски, и утверждал, что нет ни-чего лучше технического спирта. Я крутила у виска, Франкенштейн улыбался в рыжую бороду, Лера корчила надменные гримасы, а Яков Палыч хохотал в голос и пускался в армейские или ин-ститутские воспоминания. Ему до ужаса не шло его гордое, прославленное русскими князьями, вождем мирового про-летариата и нынешним президентом, имя. Ему бы подошло другое, какое-нибудь забавное, круг-лое и пушистое название. Пока же я зову его просто Вовка. А еще он, кажется, влюблен в меня. Я мило и снисходительно улыбаюсь ему, киваю головой и принимаю в дар конфетки и пряники.
- Слушай. А можно я тебя провожу? - как-то вечером спросил меня Вовка. - Ну, проводи… - пожала плечами я. Мне ли не все равно, с кем до остановки идти. Ми-нуты полторы идем молча, пиная ногами шуршащую, заиндевелую, почерневшую от первых мо-розов листву. - Наталюнсичек, - шмыгнув носом, произносит Вовка. - Как?! – не понимаю я. - Наталюшунечка, - продолжает. А вообще-то не против телячьих нежностей, всяких там пусиков и тундусиков, но в меру. А когда эти пусики и шунчики произносятся с умильно-дебильным выражением лица и безмерным обожанием в голосе, то, извините… Я вглядываюсь в его добродушное и слегка виноватое лицо: вздернутый тупой носик, карие глаза, забавная челка, мягкий округлый подбородок, губы полные и всегда влажные. Кого-то он мне напоминает этой своей детской трогательностью. - Вофслюнчик, - хихикаю я, и запрыгиваю на подножку троллейбуса. А потом уже кричу в вечернюю мглу, кричу маленькой, смешно сгорбленной фигурке на пустынной остановке: – Во-фсла! Да ты же Вофсла!
Яков Палыч у нас одно время психологией увлекался. Долго и глубоко. Недели три. Книжек специальных накупил целый подоконник, делал вид, что читает. А как нагрузился глубокими и обширными теоретическими знаниями, так решил перейти к их практическому применению. За-ходит он как-то в нашу комнату с умным видом и говорит: - Ну-с, бездельники, давайте-ка, я ваши характеры по почерку определять буду. - Угу, в эксперты-криминалисты, значит, готовишься. Или как уж там спецы по почер-кам называются, - почесал переносицу Франкенштейн. - Графологи, - подсказала я. - Фокусники и шарлатаны, - добавил Вофсла. - Не фокусники и как их там, фологи, а вполне серьезные люди. Давайте, пишите–ка по слову каждый, а я попытаюсь определить ваши темпераменты и психотипы. – Слов-то где таких ученых нахватался, Юнг доморощенный! - Фигня это все, - шмыгнул Вофсла и стал что-то сосредоточенно выводить на бумаге. - Не, не фигня. Я по телику видел, - сказал Франкенштейн, - преступника года два ло-вили, все методы испробовали, а безрезультатно. Никак не могут определить, что он за человек. А графолог посмотрел на его почерк и говорит, ну, там, мужчина, около сорока, женат и так далее, вплоть до цвета волос, места рождения, увлечений и перенесенных в детстве болезней. - Все равно фигня, кино. Определенно, фигня. Я написала слово «кентавр». Ну, захотелось так. А что, кентавр тоже человек или лошадь, это уж с какой стороны подойти. Лерочка, которая тоже изъявила желание принять активное уча-стие в эксперименте, написала слово администрация и пропустила в нем букву «т», получи-лось… правильно. Франкенштейн написал то ли «процессор», то ли «видеоадаптер». А Вофсла написал свое собственное имя, то есть Владимир. Графолог, а тем паче психолог из Палыча получился никудышный. Минут семь он с умным видом изучал наши каракули, даже закурил от напряжения, хотя курить на рабочем месте стро-жайше запрещено его же распоряжением. - Ну, чего там, Шопенгауэр? – нетерпеливо заерзал Франкенштейн. - Кто? Чего ты ругаешься, - возмутился Палыч, - сейчас расскажу. А чего там рассказывать? Ну, не болела я свинкой. И темноты с мышами я тоже не боюсь. А что такое сензитив с шизоидными вкраплениями и эпилептоидной ремиссией, - я понятия не имею. Но звучит впечатляюще. Прямо как - выпускник двух румынских консерваторий, второй за-меститель первой скрипки пятого состава сводного оркестра трижды краснознаменного Дворца культуры тружеников кунгурского завода подводных лодок имени Запаха мировой революции. С этого дня Палыч расхотел быть великим психологом и вернулся к своим повседневным обязанностям.
Вофсла же никак не хотел быть Вофслой. Меня это крайне раздражало. - Слушай, а вот, например, в интернете, в чате ты каким ником подписываешься? – спрашиваю я как-то Вофслу. - Никаким. То есть своим именем. - Вован. - встревает в разговор Палыч. - Вовочка, - высунув голову из своего угла, ехидно предполагает Франкенштейн. - Нет. Почему Вовочка. Или Вован, - Вофсла пожимает плечами, - Владимир. Это мое имя. Я не хочу никем прикидываться, называться чужим именем. Определенно не хочу. Пусть все знают, что я – это я, - расфилософствовался Вофсла. - А в играх ты как себя называешь? - прерываю я его монолог. - Ну, в том же «Квей-ке»? Ты там вроде этим глазиком на ножках играешь? - Так и называю. - Глазик? - Владимир. Во, человек!
Как раз под Новый год Яков Палыч с таким хитрющим видом заходит в наш кабинет и после скромных поздравлений вручает каждому по коврику для мышки. Вещь, сами знаете, в хозяйстве полезная и для компьютерщика совершенно необходимая. - Спасибо, - опустив глазки долу, говорю я, - мой-то коврик совсем в тряпочку превратился… На моем мышкином коврике изображены два персидских котенка – хорошенькие до тошно-ты, пушистенькие, с плоскими бестолковыми мордочками. Сидят в корзинке, все в бантиках, фин-тифлюшках и розочках. Я, вообще-то, кошек люблю, розы тоже, бантики, хоть и не носила нико-гда, тоже признаю. Но вот когда это все вместе и много, то это уже перебор. Но – мышка по кош-кам, - весело же. На коврике Франкенштейна изображена пышногрудая топ-моделька со сладост-но завлекающим выражением лица. Правильно, хороший намек, хватит с железками общаться, пора приводить себя в порядок и придти к выводу, что на свете еще и женщины есть. Пусть и с силиконовыми грудями, пусть и нарисованные. А на Вофслином коврике было… Хе-хе, представ-ляете себе: на сером ненавязчивом, прямо-таки мышином фоне – надпись (не время еще смеять-ся, я рукой махну!). Надпись… надпись, блин, смех душит… Короче – надпись – Владимир. И все! Ну, ладно там: Вовочка или Володя или Вован - крутой пацан. В конце концов – Вольдемар. Ан нет, просто Владимир. Вот и выходит, зря я так распинаюсь, раз про нашего героя и сказать-то нечего, кроме его собственного имени.
Все люди любят задавать вопросы. Кто-то чаще, кто-то совсем редко. Чаще всего вопросы задают дети и люди совсем уж ученые, которые, как и Сократ поняли, что я знаю, что ничего не знаю. Вопросы, естественно, у всех разные. У Вофслы любимый вопрос звучит так: «К чему бы это?» Сейчас на примере поясню. Вот идет снег. Один человек спросит: «А почему идет снег?». То есть: «Какова природа этого явления. Что такое происходит, раз снег пошел?» Тут ему все начнут демонстрировать свои метеорологические знания. Кто-то скажет, что раз снег идет, зна-чит, зима. Другие начнут рассказывать про движения масс воздуха, про то, как вода кристаллизу-ется, как формируются снеговые тучи и все такое. Другой задаст вопрос, а «Зачем снег идет?» Тут есть, над чем призадуматься. В сущности, и незачем снегу идти. Просто закон природы такой, что где-то, когда-то должен идти снег, иначе и быть не может. А Вофсла бы обязательно спросил: «К чему это снег идет?» И попробуйте ему ответить, что-то вроде: «Завтра сугробы будут». Или «в лесу ежик сдохнет». Его такой ответ не устроит, ибо Вофсла, как и полагается выдающемуся человеку, во всем ищет тайный смысл и двойное дно. - Дорогой, да вы во всем ищите метафизический смысл! - Все это, определенно к чему-то. Скорее всего, так. Бог с ним, со снегом, с движениями воздушных масс и замерзшими ежиками. Вопрос может касаться чего угодно. Птица за окном на ветку села. У Палыча на носу прыщ вскочил, а Франкен-штейн побрился. Американцы собираются бомбить Багдад, а в далекой-далекой галактике какие-нибудь зеленые человечки построили межпланетный корабль. Вофсла непременно шмыгнет но-сом, шумно и со свистом втянет воздух и спросит: «К чему бы это?» - это в смысле, почему имен-но эта птица на эту ветку, а не муха на окно, и почему именно американцы именно Багдад, а не туареги Доминиканскую республику? Я с первых дней знакомства была уверена, что Вофсла меня младше. Года на три, как ми-нимум, если не на все пять. Я и относилась к нему с этой меркой, снисходительно. Мол, ребенок, мальчик девятнадцатилетний, пороху еще не нюхал, надо осторожно с ним, бережно. Оказалось, что я жестоко ошиблась. Это Вофсла старше меня. На целых полтора года.
Позвольте, ну пригласил меня человек в занюханный провинциальный бар пива попить. Че-ловек этот - мой коллега. Просто так, без повода. Вернее, поводом служит конец рабочей недели. Ждешь глупых шуток, обсуждений начальства, неумелых ухаживаний. Минуты три сидим молча. Я курю и наблюдаю, как в кружке медленно оседает пивная пена, слушаю негромкий гул голосов немногочисленных посетителей. Через два столика от нас трое солдатиков шумно обсуждают причуды некоего прапорщика Бобкова. «Представляешь, я на посту, - голосом сказочника расска-зывает один солдат, - а прапор подходит, встает рядом, и давай плеваться. Плюет и плюет. Плю-ет и плюет. И курит». - На пол? – спрашивает его другой. - Нет, в ведро с водой. А ведро у моих ног стоит. Леха пол в казарме моет, вот и оста-вил ведро. А прапор плюется. Причем иногда попадает не в ведро, а мне на сапоги. - Во гад, во урод! - зашептали товарищи-бойцы. - Я терпел - терпел, и говорю: «Товарищ прапорщик, прекратите плеваться. Вы ведь мне все сапоги заплевали и пол в казарме тоже. Или уж цельтесь получше». - А он? - А он гордо так взглянул на меня, руки в боки, грудь как у петуха, колесом и говорит: «Рядовой. Я никому не позволю сомневаться в моей целкости!» - В чем - в чем? – взрыв хохота. - В моей, то есть, его целкости. – Я улыбаюсь.
- Нравится здесь? – спрашивает Вофсла и тут же отвечает сам, - Мне определенно нет. Шумно. Народу много. Я молча пожимаю плечами. Вофсла шмыгает носом, шумно втягивает в себя пиво, облизы-вает пенные усы, забавно, по-детски, чихает. Когда пьет, кружку он держит двумя руками, сильно наклоняет, запрокидывает также и голову. - А я тебя ревновать начал, - шмыгнув, сказал вдруг Вофсла. Ни с того ни с сего. - И к кому? – ехидно спросила я. – Уж не к Палычу ли? - Не-а, - гнусаво протянул Вовсла, и рассмеялся своим дребезжащим, похожим на старческий, смехом. – Не к Палычу. К Франкенштейну…. - К Фра…, фра, что? – пришла и моя очередь удивляться, - К этому придурку небрито-му. Да его ничего кроме компьютера в этой жизни и не интересует. Я и этот чудик… - Но он же на тебя так смотрел… Так глаза блестели… - Да он на всех так смотрит. Он же ненормальный. У него глаза уже от смотрения в монитор опухли. Вот и блестят. Он же псих, шизик… и зарос весь по самые уши как снежный че-ловек. Или как мужик этот ненормальный, ну, который то на Северный полюс на лыжах ходит или на резиновой лодке океан переплывает. - Он тогда так на тебя смотрел, - словно не слыша меня, повторил Вофсла. - Когда тогда? - ТОГДА, - многозначительно прогнусил Вофсла. - Да когда тогда? – почти закричала я. Вофсла ничего не ответил, шлепнул губами, шумно отхлебнул еще пива и уставился в одну точку. С ним так часто бывает: замолкнет, и взгляд вперит куда-нибудь в бездну бесконечности. И сидит. Долго так может сидеть, минуты три, иногда что-то себе под нос бубнит и в такт головой покачивает. От этого он еще больше становится похож на игрушечную собаку, помните, раньше были такие, с качающимися головами, их всех больше в автомобилях, рядом с аптечкой сажали. Авто едет, а собака одобрительно так качает головой. Вот и Вофсла время от времени превра-щался в такую собаку. - Эй, что тогда? – я поводила ладонью у него перед лицом. – Возвращайся из нирваны, скажи мне - и что тогда? - А? – вздрогнул Вофсла и недоуменно захлопал глазами, как внезапно разбуженный сыч. – Что? - Мы разговаривали о том, что Франкенштейн уж как-то удивительно на меня смотрел, - напомнила я. - А, тогда ясно, перед Новым годом он на тебя ТАК смотрел, - бесцветным тоном по-яснил Вофсла и шумно осушил еще треть кружки. - А ты, типа, все это помнишь, а может, записываешь? - Нет, не записываю, просто такое не забывается. Из одного этого случая можно сде-лать вывод, который дает мне повод думать, что между вами что-то есть. Или было. - Тьфу, блин! Ты чокнулся что ли? – покрутила я у виска. – Несешь какую-то пургу. Ни-чего не понимаю. - Помнишь, перед Новым годом. Ты еще газету эту новогоднюю рисовала? Помнишь? - Ну да, ничего, кстати, вышла газетенка, даже из стройтреста приходили, смеялись, - вспомнила я. - Помнишь, я захотел тебя обнять? - не слыша меня, говорил Вофсла. - Тьфу ты, Вофсла, почему я должна это помнить? – возмутилась я. - Так вот, - невозмутимо продолжал Вофсла, - я захотел тебя обнять, а в комнате в это время был Франкенштейн, он посмотрел на тебя, и ты меня оттолкнула. Грубо оттолкнула, мол, отвали от меня. И что я должен думать? Если ты стесняешься быть со мной, на глазах у него, зна-чит, между вами что-то есть. Ну, я просто опешила от подобного заявления. Даже не знала, что ответить. Просто молча закурила и стала внимательно рассматривать Вофслу. Есть в лице его странная и весьма приме-чательная, даже парадоксальная особенность. Оно никогда не меняет своего выражения. Могут смеяться или грустить глаза, морщиться лоб, подниматься или опускаться уголки губ, краснеть или бледнеть щеки, но при этом общее выражение лица НЕ МЕНЯЕТСЯ. Оно всегда остается плаксиво - виновато - обиженным. Как у маленького ребенка, которого поставили в угол, а за что - не объяснили. Тогда малыш надует губы, нахмурит лобик и начнет пыхтеть и сопеть. Причем де-лать это с таким усердием, что растроганный взрослый улыбнется и, погладив малыша по голове, смягчит меру наказания. - Между вами определенно что-то есть, - повторил Вофсла, а лицо его так и сохраняло маску обиженного сопящего младенца. - Да с чего это ты взял, Шерлок Холмс хренов? - возмутилась я. - С чего? С чего?! – когда Вофсла повышал голос, то он становился еще гнусавее и обиженнее. – А ты сама посуди. Раз ты не хочешь, чтобы Франкенштейн видел, как мы с тобою… хм, вместе. (Он сказал, не целуемся или обнимаемся, он сказал – «вместе». Просто - «вместе»). Раз ты этого не хочешь, значит, между вами что-то есть. Ты и этот мрачный тип, весьма колорит-ная пара. - Придурок, - буркнула я, прикуривая вторую сигарету. В бар зашел мужчина лет сорока в дорогом пальто. Заказал коньяку и, опершись на барную стойку, стал рассматривать посетителей. Он стоял ко мне вполоборота – высокий, подтянутый, черные, стриженые ежиком волосы, отблескивали серебром. Лицо у него было спокойное, слегка усталое. - Ну, ведь между вами определенно что-то есть, - продолжал настаивать на своем Во-фсла. - Ну, есть или нет… Между вами или между нами, – сбивчиво пытаюсь рассуждать я, не отрывая взгляд от таинственного незнакомца. - Какая тебе разница? Может и так. - Что так?! – Вофсла перегнулся через столик. – Ну, иди ко мне. - Блин, да отстань ты, мы же не одни, - возмутилась я. Мне было неприятно, что Во-фсла лезет ко мне со своими телячьими нежностями. Мужчина в пальто бросает на стойку купюру и навсегда исчезает за дверью. Я провожаю его взглядом. - То есть, ты не отрицаешь? – выдержав паузу, спросил Вофсла. - Не отрицаю чего? – вяло отвечаю я вопросом на вопрос, а сама перевожу взгляд на бойцов – один из них - худенький, то ли киргиз, то ли эвенк, демонстрирует приятелям татуировку на впалом пузе. Саму татуировку во всех ее деталях я не вижу. - То есть, ты не хочешь со мной… - Вофсла замялся. Шумно вздохнул, почесал заты-лок. – Быть со мной вместе? Ты же даже не пробовала. Татуированный киргиз хитро прищурился в мою сторону, закивал головой, его товарищи прыснули. - Эй, ты чего? – спросил Вофсла. – Знакомые? - Нет, - мотаю я головой. - Мы с тобой встречаемся три месяца. Вернее, три месяца и восемь дней. За это время ты даже меня толком не поцеловала. Ну, ладно с ними, с поцелуями. Я позвонил тебе четырна-дцать раз, даже пятнадцать, а ты мне всего один, и то, что бы спросить телефон, ну, этого… ко-роче не важно. Мне очень обидно. Ты жестокая. - Придурок ты, - буркнула я. – Звонки считаешь… Вофсла обиженно сопит. Лицо прячет за пенными кружевами, украшающими внутренности кружки. Еще чуть-чуть, и мне станет его жалко. Жалко по-настоящему. Как ребенка. Маленького обиженного пацаненка, который и объяснить то толком не может, что его волнует. Сидит весь та-кой румяный от волнения, уши оттопыренные пылают, молнию на куртке дергает. Вот фантазер, с чего-то взял, что мы с ним встречаемся – так, проводил несколько раз до трамвая. Ну, пивка в парке попили, поболтали, он мне все взахлеб о Кастанеде рассказывал, а я иду, листьями клено-выми желтыми как веером обмахиваюсь, через лужи переступаю, и нет мне дело ни до дона Хуа-на с его грибными глюками, ни до Вофслиных рассуждений о смысле бытия. Мне хочется быть такой легкомысленной и глупенькой! И еще – чтобы рядом был сильный, уверенный в себе, спо-койный, любящий, любимый, словом, настоящий мужчина. И я представляю, вот иду я – такая хо-рошенькая дурочка, машу белыми кудряшками, губки пухленькие кокетливо надуваю. Каблучки у меня тоненькие, высокие, и все равно – ростом я ему едва ли выше плеча. Вот я на руку его опи-раюсь, голову на плечо ему склоняю, слушаю, какие он говорит правильные и умные вещи, и мне совсем - совсем не хочется ему перечить, а все вокруг завидуют – надо же, какого мужика себе эта фифочка отхватила! И вот мы идем в какой-нибудь роскошный ресторан, садимся за лучший столик, заказываем самое дорогое вино, пусть он сам выберет какое… Да, а после ресторана он купит мне огромнейший букет роз, темно-бордовых в золотых блестках, букет такой огромный, что в машине он займет все заднее сиденье, а дома не поместится ни в одну вазу. И так далеко я в своих нехитрых женских фантазиях улетела, что… Блин! Подворачиваю в какой-то ямке ногу, по инерции лечу вперед, чуть не падаю на заиндевевший, покрытый жухлой подмороженной травой газон. Жутко матерюсь. А рядом стоит Вофсла – маленький, худенький, совсем не сильный и во-все не уверенный Вофсла, и сбивчиво пытается объяснить, что упала я потому, что шла слишком близко к газону, что у меня высокие каблуки, что я вообще очень высокая, и поэтому удержать меня было бы сложно. И вообще, хорошо, что я не упала, а ведь могла бы и упасть. Могла бы и каблук сломать, а то чего и похуже – ногу, например. - У моего друга старший брат два года назад упал и сломал шейку бедра. Два месяца лежал. А потом с тросточкой почти год ходил. Прикольно, да? – сообщает Вофсла, видимо желая меня успокоить. - Да уж, куда веселее. – бурчу я в ответ, глядя под ноги. Несколько минут мы идем молча. Он несколько раз пытается обнять меня за талию и по-стоянно отдергивает руку, словно я бьюсь электрическим током. - - А я в детстве лететь умел! - восторженно сообщает Вофсла. Вот уж не знаю, что вызвало его восторг – то, что со мной все в порядке, то, что я не стала настаивать на покупке бу-кета тюльпанов, или нахлынувшие детские воспоминания. - Да?! - певуче отвечаю я, - Во сне? Я до сих пор во сне летаю. - А я не во сне, я на самом деле, - его лицо, застенчиво улыбающееся из желтоватого, от света уличных фонарей, стало нежно-сиреневым – мы проходим мимо супермаркета с огром-ной светящейся вывеской. Сиреневолицый летающий мальчик, - какая романтика! Он пытается приобнять меня. Я, тихо хихикая, уворачиваюсь. - И что, ты взаправду летал? – я внимательно смотрю в его глаза, похожие на влажные августовские сливы. – На улице? И все сверху видел? – мне хочется верить ему. - Нет, - сиреневые отблески на его лице сменились мечущимися красными тенями – мы стоим под светофором, – Я ничего не видел. Я всегда летал с закрытыми глазами. - Ой, мой автобус! – я дергаю его за рукав, уворачиваюсь от неумелого поцелуя и вска-киваю на подножку. А он стоит такой растерянный, одинокий, губы вытянуты в трубочку, глаза по-лузакрыты. Вот и весь роман. И, похоже, что для кого-то он зашел слишком далеко. Я пытаюсь начать издалека, осторожно. Слышала я где-то такое высказывание, что отказ делает некоторых, особо восприимчивых юношей либо маньяками, любо импотентами. То есть, нельзя сразу вот так в лоб: «Да пошел ты!» - Понимаешь, - начинаю я. – Есть в этом мире такие незначительные и глупые вещи, как несовпадения. Характеров, например. Да чего угодно. Вот пошел ты, к примеру, брюки поку-пать. Но ты же не купишь те брюки, которые на три размера меньше, да еще и цвет у них тебе не подходит, какой-нибудь розовый или фиолетовый. Ты же их не купишь, правильно? Ты же тща-тельно все продумаешь, какой цвет, размер, цена, а подходят ли они к галстуку или, как шутил наш общий знакомый, к коврику для мышки. А людей выбирать – это куда сложнее. А потом, ведь не только ты выбираешь, но и тебя выбирают. Люди не ботинки и не брюки. Ты уж извини, что я говорю элементарные вещи… Ты думаешь, что она тебе идеально подходит, а она так не думает. Ты думаешь, что влюблен, а она… Да что я объясняю, ты же и сам понимать должен, не маленький… - Я не влюблен. – Вофсла понимает, что сказал что-то не то, трет переносицу. – Хотя, скорее всего, да. Определенно - да. – Опять замолкает, начинает отдирать этикетку с пивной бу-тылки, - Но ведь если ты любишь, желаешь быть с этим человеком, то он по всем законам должен откликнуться. - По каким законам? - вскидываю брови я. – По уголовному кодексу? Вофсла не чувствует, что я издеваюсь, и отвечает: «По законам справедливости. Если ты испытываешь какие-то чувства, то и другой должен откликнуться, ответить на них. По крайней ме-ре, меня так учили…Если ты чего-то отдаешь, не важно что, любовь, например, то и тебе должны ответить тем же». - А если нет никакой любви. Не вообще, не во вселенском масштабе, а в нашем кон-кретном локальном случае. Нет ее! Любовь – это когда двое. Причем не просто двое, а двое, у которых есть что-то общее. Ведь так?! А ты просто ошибаешься. - Я нервничаю и тоже начинаю отдирать этикетку со своей бутылки, она не поддается, приходится с усилием скрести ногтем. - Знаешь, у Рея Бредбери в «Марсианских хрониках» есть классный эпизод – на плане-те осталось всего два человека – мужчина и женщина. Они еще не встретились и не подозревают о существовании друг друга. Вернее, оба надеются, что есть еще кто-то, что они не одни. Причем первым искать стал мужчина. Этот чудик зашел на телефонную станцию и стал набирать все но-мера подряд… - К чему это? – задал Вофсла свой сакраментальный вопрос. - К тому, что кто-нибудь да откликнется. Он даже сообразил, что лучше женщину, а он сразу понял, что это женщина, искать в салонах красоты или… - Да нет же. К чему ты все это рассказываешь? - Да к тому, что когда эти последние и единственные на планете люди встретились, то поняли, что лучше быть в абсолютном одиночестве, чем вместе. Настолько они были непохожи. Поэтому, иногда можно быть единственным мужчиной на земле и быть отвергнутым. Теперь по-нял, к чему?! - Но ты ведь даже не пробовала, - наклонился он к моему уху. - Не пробовала чего? - Любить меня. - А как можно попробовать любить. Или полюбить?! – я нервно поежилась, потому, что рука Вофслы поползла мне под юбку. – Руки убери! – я, кажется, не просто громко возмутилась, а крикнула, потому, что товарищи-бойцы, бурно обсуждавшие мировые проблемы, а именно, где девушки красивее: в Твери или Каиркане, все как один поглядели в мою сторону. - Ты даже не пробовала. Тебе ничего не придется делать, только любить, - и он напря-женно засопел мне в ухо. - Эй, красавица! – окликнул меня один солдат. Лицо его, по-киргизски или чукотски уз-коглазое и плоское, сияло блаженной улыбкой. – Он обижает тебя, да? А ты скажи, как он тебя обижает? Хочешь, я помогу. Я спасу тебя! - Спасибо, - машу я рукой. - Мы сами разберемся. - Как хочешь, красавица… - Послушай, Казанова, если ты такой умный, то это твои проблемы. Но не надо позо-рить меня на все заведение, - я возмущенно шепчу Вофсле в самое ухо, - И не надо путать лю-бовь и секс. Это немного разные вещи. Хоть и взаимодополняющие. - И громко, чтоб и товарищи бойцы меня услышали, добавляю, - А потом, извини уж за грубость, меня не возбуждают мужчин-ки, шмыгающие носом и у которых штаны на заднице, извините, висят. И уж тем более такие, ко-торые прежде чем подать девушке руку, спрашивают разрешения! Так ты никого не очаруешь, уж поверь мне! – я глубоко и шумно дышала, раздувая ноздри, кровь стучала в висках, и щеки горе-ли. Вофсла отодвинулся от меня, вернее отскочил. Долго и серьезно смотрел исподлобья, сна-чала взгляд его вопрошал: «Ты это серьезно? Это правда?», потом в его глазах отпечатался во-прос: «Значит между нами все кончено?» и, наконец: «За что ты так?». Товарищи-бойцы, молча наблюдали за нашей немой сценой. Татуированный киргиз слегка покачивал головой. - А если я пересплю с другой женщиной, то ты не обидишься?! – вдруг спросил Во-фсла, причем голос его прозвучал так громко, что немногочисленные посетители бара даже обернулись на нас. А бритый налысо парень в камуфлированной куртке оторвал взгляд от бар-менши и изумленно рыгнул: «Во как?!» - Я?! С какой стати? - Я чуть не поперхнулась. - Да и как я узнаю?! - Я бы тебе сказал. Обязательно сказал. Определенно. - Господи, Вофсла, какой же ты жалкий! – раздраженно вздыхаю я. – Ты хоть понял, что сморозил глупость? А? Вон, погляди, на нас уже все заведение смотрит. - Почему? Если не хочешь ты… То наверное, если не против… Да, определенно… - по-тупив взор, подбирает нужные слова Вофсла, - чего же я такого сказал? Если не хочешь ты… Ка-тегорически не хочешь… То… конечно, если ты не обидишься… - Да и какого хрена мне обижаться? Определенно! Скорее всего! Идиот! – вскакиваю я, - Просто идиот! Параноик! Тебе лечиться надо, ты от своих рассуждений совсем свихнешься! Да тебе гормоны в голову ударили! Тебе же, наверное, все равно с кем! Да?! Ты же мне никто! Меж-ду нами НИЧЕГО не было! - я стучу кулаком по столу, - Да я, я с кем угодно, только не с тобой, понял?! Мне наплевать, с кем ты и где! Ясно! Потому, что меня это ни хрена не касается! Ты про-сто озабоченный придурок, которому даже бабу снять не хватает ума! Понял? – я рывком хватаю сумку, и на ходу застегивая шубу, вылетаю из бара. Лысый парень в камуфляже скупо аплодиру-ет. Вслед мне глядят товарищи-бойцы.
На следующий день Франкенштейна словно подменили. Во-первых, он сбрил всю буйную растительность с подбородка и щек, оставив только маленькую мушкетерскую бородку, а нечеса-ную гриву заделал в аккуратный хвост. Во-вторых, вечный серый джемпер с продранными пузы-рящимися локтями сменил на светло-бежевый свитер домашней вязки с косичками и какими-то финтифлюшками. В-третьих, седьмых и двадцать четвертых - он обнаружил, что в комнате вме-сте с ним находятся еще какие-то люди, и что один из этих людей – женщина. - Ну, ты Михаил, прямо как жених, - восхищенно одобрил франкенштейновские мета-морфозы Яков Палыч. Вот, говорила же я, что у этого типа есть нормальное человеческое имя. - Курить пойдешь? – смущенно улыбаясь, сказал Франкенштейн, и даже попытался протянуть мне руку. Я заметила, что ногти он тоже почистил. - Ну, п-пойдем, - от смущения стала заикаться я.
А дальше – еще веселее. Утром выхожу из трамвая и – о, батюшки – на остановке Миша - Франкенштейн собственной персоной с каким-то подтянутым черноусым офицером беседует. Я хотела было мимо прошмыгнуть, а он заметил меня: «Привет!» - кричит. Усатый офицер кивнул мне и быстро попрощался. - Толик, - восхищенно произнес Франкенштейн, глядя вслед офицеру, - Представля-ешь, Толик… надо же какой стал! Одноклассник мой, до седьмого класса вместе учились. А потом он в Москву уехал, в суворовское училище поступать. А теперь вот уже подполковник. Он и в Гер-мании служил, и в Югославии, и в Чечне. Толик… Вот молодчина. Я помню, он после выпускного к нам приехал, мы - то балбесы длинноволосые в рваных джинсах и майках с черепами, а он - в военной форме, аккуратный, подтянутый, все девчонки в него перевлюблялись… Блин, Толик. - Ну, Толик, так Толик, встретил человек старого друга, надо же с кем радостью поде-литься. Вот так, мило беседуя, мы и прошли триста метров от остановки до конторы. Дальше – картина маслом. Заходим в кабинет вместе, весело перемигиваясь, и натыкаемся на холодный пристальный взгляд Вофслы. Вернее, натыкаюсь-то я, мне казалось, что он вообще хотел во мне глазами дырку пробуравить и кишки наружу выпустить, вот, мол, так тебе. А Франкенштейн, не будь дурак, поворачивается ко мне, мило так улыбается и говорит: «Ты у меня, кажется, про мо-дем спрашивала, так можешь взять на пару недель, мне все равно он пока не нужен, так что по-сле работы зайдем». - Ага, - кивнула я. Краем глаза я наблюдала за Вофслой, он нервно жевал губы, раздувал ноздри и сопел. В обед Франкенштейна вызвали в стройтрест чинить компьютер. Мы с Вофслой остались наедине. Тягостное наэлектризованное молчание зависло в воздухе, а потом раздалось громо-гласное «Ну?». - Чего ну? – грубо спросила я. Вофсла еще сильнее раздул ноздри, лицо его покрылось красными пятнами, а вздернутый носик вспотел. - Чего ты опять удумал, Каменский? – нервно спросила я. Вофсла молчал как партизан. Дверь резко распахнулась и на пороге возникла Лерочка. Че-стное слово, в этот момент я была рада видеть даже ее. - Вот! – швырнула со злостью она на стол розовую пластиковую папку, - ваш заказ! На-деюсь, у вас получится такое же дерьмо, как и в прошлый раз. Радуйтесь, потому, что тупые кли-енты не переведутся еще долго! - Все? Еще пожелания будут? – сдерживая злость, но, все же сохраняя внешнее спо-койствие, спросила я. Лерочка хмыкнула, задрала голову, повернулась ко мне в профиль – родимое пятно на ее щеке из бледно-розового стало багровым, громко и недовольно кашлянула и, грохоча каблуками, вышла из комнаты, умудрившись бедром задеть стопку газет, лежавших на тумбочке возле входа. Дверью она хлопнула сильнее обычного. - Такая красивая женщина эта Валерия, - проводив ее взглядом, задумчиво произнес Вофсла, - жалко, что такая злая. - Конечно, очень красивая, - ехидно согласилась я, - если ее укоротить на полметра и сделать десятка два пластических операций. Тогда да. Даже ничего будет. - А, между прочим, ты - некрасивая. Вернее не очень красивая. Мне так кажется. - Угу. Вообще, уродина, - скорчив рожу, ответила я. – Хотя, мне говорят, что я на Ша-киру похожа. - А зачем ты осветляешься? - не слушая меня, продолжал Вофсла. – Это же ужасно смотрится! Тебе было бы лучше брюнеткой. Или шатенкой. Да, пожалуй, шатенкой. Да, опреде-ленно, шатенкой. - Слушай, Слава ты Зайцев, может, ты моим личным стилистом будешь? – издеваю-щимся тоном предлагаю я. – Ну, там, одежда, макияж, прическа, все такое прочее? Но Вофсла меня не слышит, полуприкрыв глаза, продолжает очерчивать мои недостатки: «Ты краситься не умеешь. Тебе не идет эта помада. Какой-то круг вокруг губ, размазано как-то. Мне не нравиться. Вообще, пухлые губы не нравятся. И одеваться тебе надо по-другому. Я еще не знаю как, но явно, что не так…» - Слушай, Юдашкин, ты заткнешься или нет?! – начинаю нервничать я. - Если тебе что-то не нравится – это твои проблемы. Мне самой виднее, как краситься! Тебе-то я не мешаю! И вообще, хорош грубить! Не на ту напал! - А с тобой можно общаться только грубо! – парирует Вофсла. - Рот закрой! – стучу я кулаком по столу. – Заткнись! Я тебя не слышу! – и для нагляд-ности закрываю уши ладонями. Вофсла тоже начинает барабанить ладонями по столу, покачивая в такт головой. Со сторо-ны выглядит очень смешно, хоть клип снимай. Я отнимаю руки от ушей. Вофсла бубнит себе под нос. Это продолжается минут пять. Наконец, я не выдерживаю. - Эй, придурок, ты заткнешься или нет! – обращаюсь я к нему. – Ты мне мешаешь! В ответ он «запел» еще громче. - Слушай, хватит испытывать мои нервы. В чем, наконец, дело? – я пытаюсь вызвать его на дипломатические переговоры. - В чем? – Вофсла обводит меня мутным, обиженным взглядом. – А в том, что ты меня очень обидела. Можно сказать, кинула. - Кинула? Не фига себе заявочки! – я аж присвистнула. – И как я тебя кинула? На бабки развела что ли? - Примерно так, - он почесал себе лоб, - у тебя вообще потребительское отношение к людям. Ко всем. - Э-э-э, про всех уж не надо. Тебе-то я чем не угодила? - Ты злая, - коротко поясняет он. - Допустим, - отвечаю я. - Это мне неприятно. - Ну, неприятно, так и не общайся! Хочешь, ширмочкой тебя отгородим? А? Тогда я те-бе совсем мешать не буду! А если что спросить надо, так ты записочку напиши. Или факс от-правь! Или по электронной почте письмишко… - Мне мешает твое равнодушие… - Во как? И что?! - Я задеть тебя хочу. Задеть до самого сердца, - он пристально и доверчиво смотрит на меня, а я почему-то борюсь с желанием его ударить. - Задеть?! До самого сердца?! Слов-то где таких нахватался? - срываюсь на крик я. - Да ты сперва гайморит вылечи! А то надоел всем своими соплями! Шмыгает и шмыгает! А потом, надоели мне твои глупые вопросы: можно я поцелую, провожу, скажу. Нормальный мужик не бу-дет спрашивать разрешения, а поцелует, возьмет короче свое. А ты – размазня сопливая! Только гнусить и умеешь. Ты бы хоть раз закричал, хоть раз возмутился! Размазня, рохля, вофсла, вот ты кто! Вофсла! – я вскакиваю, убегаю на лестницу. Долго сижу на продавленном стуле, курю си-гарету за сигаретой и шмыгаю носом.
Вроде от двух бутылок пива голова так болеть не будет. И ноги так тоже заплетаться не должны. Вот парадокс – стоит понервничать, так алкоголь начинает действовать на меня с удеся-теренной силой. Нервному человеку достаточно на пробку наступить и -… Блин, сшибете же! Мне под ноги с хохотом бросились два пацаненка. А затем из арки дома, рыча и лязгая, выехал грузо-вик - хлебовозка. Я неловко отпрыгнула в сторону, закачалась на одной ноге – скользко. - Задавил, ирод. Ей богу мальца задавил! - заголосила плетущаяся рядом бабулька. Из глубины двора послышался заливистый мальчишеский хохот. - Вот ироды, и смеются, - закачала головой бабулька. Пацаны, которые едва меня не сшибли, сидели в сугробе и, пожимая плечами, перегляды-вались. - Задавил, ирод окаянный! – причитала бабулька. Грузовик, отъехав от дома метров на двадцать, резко затормозил, из кабины выскочил водитель и, размахивая руками, побежал в сторону арки. – А ну стойте, черти! – кричал он. Пацаны скатились в сугроб. Причитающая бабулька заковыляла во двор. Я поспешила за ней. Удивительно, до чего ж мы любим различные происшествия! На до блеска отполированном многочисленными подошвами и автопокрышками тротуаре, в какой-то ямке лежал на животе мальчишка лет восьми и дико хохотал, дрыгая ногами. - Я те покажу, как баловаться! – заорал на него водитель грузовика. – А если б я тебя задавил. Мне б тогда что, в тюрьму, да? Ты ради смеха под колеса, тебе смешно, а мне сидеть? – водитель размахивал руками, очерчивал в воздухе круги. – У-у-у! Балбес, двоечник, небось, да? – водитель крепко схватил пацана за плечо, прижал к земле. Тот перестал хохотать и ногами дры-гал уже не от смеха, а пытаясь освободиться. - Слава те господи, живехонек! – перекрестилась бабулька.
Ночью мне снился прапорщик Бобков. В начищенных до блеска кирзачах он ходил туда-сюда по обнесенной колючей проволокой площади и плевался. «Главное в нашем деле, товарищи бой-цы - это целкость. Без нее, подлюги, никуда». Узкоглазый киргиз с татуировкой на пузе беззубо улыбался мне. Где-то далеко-далеко надрывался телефон. Я стояла по колено в какой-то пене и думала о том, что никто не хочет снимать трубку. - Тебя, - прозвучал у самого уха мамин голос. – Говорят, из милиции. Опять этот твой Леша или как его, прикалывается среди ночи. Полчетвертого же. Я нашарила тапочки, и щурясь от бьющего в глаза света, прошаркала в прихожую. - Але?! Какая еще милиция? Я-то при чем… Да?! Во блин… - я плюхнулась на пуфик, почесала ладонью лоб. Мама стояла рядом, прислонившись к косяку и скрестив на груди руки. – Ладно, конечно расскажу. Раз такое дело. Ужасно… - Чего стряслось? – занервничала мама. Я не отвечаю. Сижу, тупо уставившись на пятно на обоях, разглядываю, на что оно больше похоже – на женский профиль или на карту Африки. - Чего ты опять натворила? – трясет мама за плечо. - Мама, а я не сплю? - спрашиваю я голосом ежика в тумане. - Да чего случилось-то?! – в маминых глазах ужас вперемешку с вопросом. – Чего опять стряслось?! - Какое, к черту опять? – кричу я. – Вовку убили. Или он сам того. Короче, разбираются. Сейчас подъедут. - А ты-то при чем? – допытывается мама. - При чем? Зачем? Откуда я знаю. Работаем же вместе. Наверное, расспрашивать бу-дут. Ну, не я же убийца. - Я криво и глупо улыбаюсь. Иду на кухню. С ногами взгромождаюсь на табуретку, закуриваю. Влипла, блин. Интересно, о чем они меня спрашивать будут. Что я делала вчера вечером? - Оделась бы. А то приедут. А ты в пижаме, неудобно же. Ну, ведь не ты его, правда? – мама заглядывает мне в глаза, пытается погладить по руке. – Ты ведь вчера у Полины была? Да? Вот и скажешь. И я подтвердить могу. У Полины, конечно, у кого же еще? «Тебе когда-нибудь было противно и мерзко смотреть на своего мужчину?» - спросила меня Полина, не далее как вчера. И принялась в ярких красках рас-писывать то, как ее муж пришел домой пьяный, обнимался с дверными косяками и фикусом, пы-тался звонить по пульту от телевизора, поздравлял всех с Новым годом, по пояс высунувшись из окна, и как ей было за него противно и стыдно. Конечно, она подтвердит. Я, как робот, в каком-то полузабытьи тушу недокуренный бычок о край мойки, сыплю пепел на пижамные штаны. Шаркаю в комнату, долго соображаю, как мне одеться. Они допрашивать меня здесь будут или увезут? Нехотя натягиваю джинсы, водолазку. - Если чего бы подозревали, то они бы не позвонили, правда ведь? – на пороге возник-ла мама. – Вот, возьми, мало ли чего. Задержать могут. – Мама протягивает мне полиэтиленовый пакет. В нем мыло, паста, зубная щетка, записная книжка, какие-то тряпочки, пара яблок. – Возь-ми. А сигареты в карман положишь. И носовых платков пару. Прокладки возьми. Бумагу туалет-ную… - ее лицо делается грустным и обреченным. - Мам? Ты с ума сошла? Ты что, меня в тюрьму провожаешь?!!! Мне ведь только поз-во-ни-ли! Понимаешь? – я хочу броситься на нее с кулаками. Стискиваю до хруста зубы, стучу се-бя в виски, отбиваю такт. - Мне же только поз-во-ни-ли! - Правильно! И мать убей, психопатка. Давай, еще соседей разбуди! Давай! И мать убей! Некому будет передачки таскать! Говорила я тебе, не трепли языком! - Отвали! – и я вылетаю из комнаты. На кухне закуриваю сигарету, зубы стучат о фильтр, пальцы холодеют и дрожат, в висках стучит и просится наружу кровь. В дверь позвонили. Открыла, наверное, мать. А может, они и сами открыли. Милиционеров было трое. Один был в форме, сам невысокий, пухленький, похожий на актера Леонова в молодо-сти. Рожица круглая, смеющаяся и добродушная. Второй в черном камуфляже, высокий, широко-плечий, лицо непробиваемое и суровое, как у нациста. В руках он сжимал автомат. Третий – ху-денький тип в гражданском, в синеньких, из-за вспухших вен, ручонках он сжимал тоненькую ро-зовую папочку. - Участковый Бобков, - представился маленький румяный мент. - Прапорщик? - криво улыбнувшись, спросила я. - Почему прапорщик? Майор. – широкое лицо его расплылось в добродушной улыбке. - Вы ответите нам на пару вопросов, - гражданский сел за стол и раскрыл папочку. Вто-рую табуретку занял Бобков - Леонов. Пуленепробиваемый нацист стал в дверях. - Х-хорошо, - нервно кивнула я. - Мамаша, позвольте, мы поговорим с подозреваемой наедине, - пшикнул тип с папоч-кой моей испуганной маме и развернулся ко мне. Посмотрел внимательно, как доктор на пациен-та. – Ну-с, скажите-ка мне, где вы были и что делали вчера, седьмого февраля с восемнадцати тридцати и до двадцати четырех часов, - елейным голосом обратился он ко мне. - Я?! - Ну да, вы. - А в чем собственно дело? - Как? Не знаете? – тип с папочкой кивнул в сторону нациста. – Вам объяснить? - Объясните, - дрожащим голосом попросила я. - Курить во время допроса можете, - сказал майор, заметив, как я бросаю взгляды в сторону лежащей на холодильнике пачке сигарет. – Такое имя, как Владимир Кузнецов вам ниче-го не говорит? - Г-г-оворит, - киваю я. – А в чем дело? - Несколько часов назад его нашли мертвым. - Как?! Мертвым? - Мы же вам по телефону сказали. Итак, это имя вам что-нибудь говорит? - Д-д-да, - зубы мои стучат. - Что да? – тип с папочкой нахмурился. - Говорит, - мямлю я, а потом неожиданно для самой себя выстреливаю - То есть го-ворить я буду в присутствии адвоката. - Стражи порядка переглянулись. Тип с папочкой покачал головой, поджал губы. - Это, милочка, меняет дело, - прочистив горло, сказал Бобков. – тогда вам придется проехать с нами, сесть в ..хм, камеру. А там…хм, кто знает. Кто знает. Будет вам и адвокат, и про-курор и отдых на Канарах. Так что, в интересах следствия и в ваших, гражданочка, интересах, рассказать нам все ЗДЕСЬ. И аккуратно ответить на все вопросы следователя. Хорошо? - Хорошо, - киваю я. Ага, значит тип с розовой папочкой – это и есть следователь. Плохо мое дело, раз следова-теля привели. А может и наоборот хорошо, я же никогда с органами правопорядка близко, слава Богу, не общалась, только в кино видела. А что кино? Хотя, если припомнить пару киношно - де-тективных эпизодов, то, наверное, можно выкрутиться, - подумала я. Но тут же спохватилась, - зачем выкручиваться, если я точно знаю, что невиновна. Ой, блин, влипла! - Итак, вчера ночью Владимир Кузнецов был убит, - монотонно и тяжело произнес следователь. – Вы нам ничего не хотите сказать?! Ну, кем он вам был, в каких отношениях вы с ним были… Простые человеческие вопросы. - Ну.. работали мы вместе. Пару раз он меня проводил… Еще в кафе ходили, то есть он меня приглашал… - То есть, находились в достаточно близких отношениях, - следователь вытянул шею и внимательно заглянул мне в лицо. Глаза у него были серо-голубые, похожие на два ледяных ша-рика с вмерзшими в них вишенками, вроде тех, что кидают в коктейли. - Близких? А что вы называете близкими? - Хм, барышня. – следователь покачал головой, - не хорошо притворяться дурочкой, - ледышки-вишенки его заблестели. - Извините, а как его убили? – тихо спросила я. - Майор и следователь переглянулись, нацист нервно погладил дуло автомата. - Это, душенька и предстоит выяснить следствию, - следователь задышал мне в лицо какой-то мятной гадостью. – Если бы мы знали, как он был убит, почему убит, зачем убит и глав-ное… - он оглянулся на нациста, пощелкал пальцами, а затем, выдавливая из себя каждое слово, закончил фразу, - и главное, деточка, К ЧЕМУ УБИТ… - Да, самое главное, это понять, к чему совершено то или иное преступление, - закивал майор. - Если бы мы знали, к чему, то нам бы все было ясно и без вас. - Позвольте, ну при чем здесь я?! – Я даже привстала с табуретки. – Давайте, я рас-скажу вам все. Все про вчерашний день, и отвечу на все ваши вопросы. Только я здесь ни при чем, понимаете. Я вчера весь вечер была у Полины. К ней еще муж приходил, понимаете, они по-ссорились, а потом помирились, понимаете… Мы весь вечер вместе провели… Она подтвердить может. Вы позвоните. - Кто такая Полина? – прикрывая ладонью рот, тихо спросил майор у следователя. - Подруга подозреваемой, - так же шепотом ответил следователь. И уже громко и же-лезно обратился ко мне. – Полина ничего не подтвердит, потому, что вы не были ни у какой Поли-ны, и вообще, нет у вас никакой Полины. Ну, нехорошо же врать следствию, - он криво улыбнул-ся, - мало ли чего, еще срок сами себе намотаете. Думать головой надо, девушка. Кровь билась в висках и просилась наружу, а еще жутко хотелось пить. Удивительно, как об этом догадался майор: достал с полки кружку, причем мою любимую, с оленями и налил в нее компота. Как это – нет никакой Полины. Мы же вчера после работы виделись. Зашла я к ней после работы, поболтали. Потом муж ее пришел Лешка. А потом мы пива взяли и пошли в садик гулять. На качелях сидели, хорошие такие качели, не сломанные. Я сижу напротив Полины, а Лешка нас раскачивает, и все – скрип-скрип, вверх-вниз. А Полинка, вот дурочка, все жалуется, как она за зиму располнела. А я ей рассказываю, как с Вофслой поругалась. Какой он, мол, дурак, раз по-нять не хочет, что я его не люблю. А Лешка все хохотал и анекдоты рассказывал. А потом они ме-ня проводили до арки. А в арке этой чуть пацана грузовиком не задавило. Хотя, сам виноват, надо же - под машину лег, камикадзе малолетний. Интересно, а если бы задавило, водителя бы тоже посадили? Ведь он же сам лег на дорогу, лежал и хохотал, а водитель бы виноват оказался… - Угу, - следователь почесал колпачком ручки переносицу. – А может хм, покойный что-нибудь говорил вам перед смертью, просил что-то. Ну, может не совсем перед смертью. Может, он звонил вам? - Скорее всего, звонил, - согласился майор. - Определенно звонил, - закивал нацист. - Погодите - погодите, - замотала я головой. Голова неожиданно стала круглой и тяже-лой, как полый чугунный шар, а внутри шара катался другой шарик, поменьше, тоже чугунный, но литой. Когда я качала или вертела головой, шарик начинал кататься, больно стукаться, отчего сильно отдавалось в ушах. Удобнее всего было держать голову, слегка склонив ее влево, тогда шарик скатывался куда-то в район шеи и не так беспокоил. – Погодите, он действительно звонил вчера. Около десяти. Только я трубку брать не стала. – Чугунный шарик внутри головы пребольно стукнулся в правый висок. - Позвольте, а как вы узнали, что звонил именно он, если трубку брать не стали? – спросил следователь. - А у меня телефон с определителем. – Бодро отвечаю я и тут же осекаюсь. - С определителем?! Это меняет дело, - майор и следователь переглянулись. – Если с определителем, то в нем все звонившие номера записываются, так ведь? - Так, - киваю я. - Вот и славно, несите ваш телефон. Я тыкаю негнущимися пальцами в кнопки, те жалобно пищат. Архив входящих звонков чист. - А говорите, звонил… Блин… А же вчера, перед тем как лечь спать архив почистила. Удалила все звонки. Все, я пропала. Чугунный шарик стукнулся в затылок. - Так звонил или не звонил? – занервничал майор. - Звонил, - тихо говорю я. – только я память у него почистила. Вчера вечером. У него архив на пятьдесят номеров, вот я и почистила… - Зачем?! – наклонился ко мне следователь. - Просто так. Я иногда так делаю. - Просто так? – следователь даже взвизгнул на слове «так». – Уж очень много просто так. Вы говорите, что были у некоей Полины, а на самом деле шляетесь неизвестно где, вы ут-верждаете, что убитый звонил вам, но, тем не менее, умышленно стираете все входящие звонки. Выходит, вам есть чего скрывать? Да?! «Котлеты украл валет» - почему крутится у меня в голове. Это всегда так, когда хочешь со-средоточиться, так в голову всякая дрянь лезет, оно конечно, может, и не дрянь, только очень уж не к месту. То песенка какая, то стишок. А теперь вот про котлеты и валета. Или вольта. Я пыта-юсь прочесть эту фразу наоборот, но после «телавлар» сбиваюсь. Телавлар. Красивое слово, похожее на название древнего города. В этом городе жили красивые и высокие люди, и все сплошь занимались различными искусствами. И не было среди них ни ехидного майора Бобкова, ни гнусного, пахнущего мятной жвачкой следователя с синими руками, ни желчной нервной Лерочки с ее родимым пятном в полщеки. И меня тоже не было. Потому, что в городе Телавларе нет места лгунам и убийцам. В центре города была огромная круглая площадь, и по всей ее ок-ружности. Или периметру, хотя подождите, у окружности ведь нет периметра, есть длина окруж-ности… В общем, на площади стояли статуи. Много-много мраморных богов и богинь. И боги бы-ли столь же прекрасны и совершенны, как и жители Телавлара. Или наоборот, люди были пре-красны как боги. И только один-единственный божок был уродлив и зол. Был он из грязно-желтого, как прокуренный зуб, камня. И были у того божка огромное брюхо, длинные уши, кривой толстогубый насмешливый рот, нос картофелиной, глазищи выпученные, злые. Так тебя и сверлит взглядом-то, а не смотри, что каменный, он всё видит, а по всему скрюченному, раздутому телу – бородавки, величиной с грецкий орех. Божок этот олицетворял все человеческие пороки сразу. А еще, если человек не чист, то хитрая каменюка могла определить это. Вот хотят, к примеру, Телавларцы человека наказать, а как, скажите, это сделать? Ведь так сразу и не поймешь, виновен или нет - у них-то, в древние-то времена, следователей и прокуроров, наверное, не было. Вот и ведут к желтой ушастой каменюке… - Вам придется проехать с нами, - прошлепал толстыми каменными губами телавлар-ский божок, и превратился в следователя.
В камере, кроме меня, находилось еще три женщины. Первая из них – худая мутноглазая девица в яркой растаманской шапочке. Красно-рыжие волосы ее закручены в лохматые неопрят-ные жгуты, похожие на старые размахрившиеся канаты. На ногах у девицы оранжевые замшевые ботинки без шнурков. Шаркая, с трудом передвигая ноги, словно лыжник по асфальту, она подо-шла ко мне. - Наоми, - представилась она, и вложила сухую жесткую ладонь в мою, влажную и дрожащую. - Привет, - выдавила я из пересохшего от страха горла. - Хорош приставать, еще не ясно, что за птица, - раздался хриплый бабий бас. Бас принадлежал другой особе, которую я по близорукости и из-за недостатка освещения в камере приняла сперва за огромную груду цветного тряпья. Груда зашевелилась, перекатилась, и я увидела, что это - толстая, просто огромная баба с опухшим испитым лицом. Одета баба в ки-слотно-голубой спортивный костюм, а поверх него – во фланелевый халат в мелкий цветочек. На ногах у нее – обрезанные валенки. Баба измерила меня усталым взглядом и ничего не сказала. И третья – женщина средних лет, волосы ее – седые-седые, причем, почему-то думается, что поседела она очень быстро и сразу, от какого-то потрясения. Лицо ухоженное и интеллигент-ное. Минут пять обитательницы камеры молча изучали меня. Особенно внимательно – седая женщина. Она сидела на табурете спиной к зарешеченному окну, спину держала прямо, колени вместе, сидела, словно аршин проглотила. Опухшая баба, широко расставив толстые, как фонар-ные столбы, ноги, опершись ладонями на колени смотрела на меня рывками, время от времени отводя затуманенный взгляд. Растаманка – Наоми вообще стояла, прислонившись к темно-зеленой стене, обклеенной вырезками из журналов, и нервно курила. - Ну, новенькая, докладывай! – звучно хлопнула себя по коленке баба. – Да стой пока на месте! – пригрозила она, заметив, что я дернулась и шагнула вперед. - Я невиновна, - прошептала я. – Я случайно тут оказалась… Баба громко расхохоталась, заколотила ладонями по широким коленям. Смеялась долго, то прихрюкивая, то шумно сопя и втягивая ноздрями воздух. – Невиновна! Поглядите на нее! Она невиновна! Она чиста как ангел! – и накренившись вперед, подавшись всем своим мощным кор-пусом, прошипела, - все мы тут невиновны. Только вот за что-то сидим. - Да не слушай ты Люську, - приветливо кивнула мне Наоми, - проходи, подо мной жить будешь. Я бросила на нижнюю шконку свой узелок, глубоко и шумно вздохнула и уставилась на Наоми. - А тебя за что? – шепотом спросила она. – Меня за наркоту. Травкой я торговала, га-шишем иногда, экстази тоже. Ты пробовала экстази? - Нет, - замотала я головой, - я только клофелин пила и азафен. - Фигня, - махнула рукой Наоми. – Толку как от анальгина, только в голове пошумит. - Почему, если, к примеру, пару пачек Димедрола проглотить, то тоже ничего, - про-должаю я. – Или реланиума. Или еще колеса есть прикольные, сонапакс, по-моему… - Не-а, определенно фигня это - колеса, - зевнула растаманка, показав мне идеально ровные, но прокуренные до ржавости, зубы. – Травки хочешь? У меня есть. Не все эти шакалы забрали. Вот погоди, сперва Люська удрыхнется, а потом мы с тобой и покурим. Угу? - Угу. – киваю я и плюхаюсь на продавленную кровать. Проходит минут десять, а может и час. Часов у меня с собой нет, а все происходящее, лишь страшный сон, так похожий на реальность. Сейчас он кончится. Меня защитят боги Телавлара. - Эй, новенькая, как там тебя? – Я вздрагиваю от незнакомого голоса, спросонья щу-рюсь. Сверху свешивается голова Наоми в ореоле золотых нечесаных волос. – А это правда, что тебя за убийство, ну это… Ты что, правда? - Видать, что правда. - низким глухим голосом отвечает седая прямая женщина. - Во интересно, - улыбается Наоми. – Из-за парня, да? Так романтично… Ты убила со-перницу, да? А чем, ножом или отравила? Слушай, а может, ты ее задушила своим чулком? Или из окна столкнула, такое ведь тоже бывает, я в одном кино видела… - Да заткнешься ты наконец Наёма-Ерёма, загреби тебя дрема! – басит толстая цвет-ная баба. – Всю ночь спать не давала, теперь еще и днем донимаешь! Где ж спокой-то?! Эх, по-падешь на зону, тебя там быстро отучат языком-то чесать! - Хорошо, теть Люсь! – кричит Наоми, продолжая висеть вниз головой. – Это тетя Люся, она хорошая, добрая, только ворчливая. Она самогон гнала и торговала им на улице. Вот ее и посадили. - За самогон? - Нет. Просто два синяка каких-то купили на углу бутылку, выпили и отравились. А бу-тылку, вроде бы у тети Люси купили. Хотя еще неизвестно, чем они отравились. Следователь говорит, что они ацетоном отравились, они его в самогон добавили, для крепости как бы. Вроде и сами виноваты, что сдохли. Только никто разбираться не стал. Заладили, что «умышленное от-равление». Вот ее сюда и посадили. Пятый месяц суда ждет. - Не ври, позавчера как шестой пошел, - поправила тетя Люся. – Опять ты, Конопляная Башка все напутала. Как бы, вроде бы! Кажный раз тебя переправляй. Сказано же, о том, что эти недозвоны у меня выпивку брали – это Рашидка стуканул, сосед мой по коммуналке. Уж и не знаю, как прознал. А дело-то вот как было. Ну, померли те сердешные недомерки прям у подъез-да на трубе-то энтой, что вроде как войлоком обмотана. Ну и вызвал кто-то скорую. Ну, забрали доктора трупы, посмотрели, - не наше, дескать, дело - криминальное… - Ага, криминальное. Криминальное – это когда ножевые или пулевые ранения. – Пе-ребила седая женщина. - Ой, Верунчик! Опять ты со своими умностями. Были, были на них ранения! Вот те крест, что были! Ножевые, как ты и говоришь. Они перепившись, видать друг друга ножичками-то перочинными и потыкали хорошенько. Да и по мордасам друг другу тоже надавали! – тетя Люся для убедительности даже руками в воздухе помахала, изображая, как пьяницы ножами тыкались. – Ну вот, как дело-то было. Повезли трупы на ёкс.. ыкс.. короче пиритизу. - Экспертизу, - поправила седая. - Ну, вот, на нее самую. Там мужик вроде дохтора, только с трупами возится. Название у него мудреное, вроде матерного. - Судмедэксперт, - глухо произнесла седая. - Ага! – согласилась Люся, - он самый! Он осмотрел голубчиков, анализы вроде как взял, и все в специальный журнал записал: когда, от чего, почему скончались они, и что к этому привело. Записал, значицца, в журнал особый и начальнику своему отдал. А тот прочитал, печать поставил и другому начальнику, повыше. Тот тоже печать шлепнул – и наверх. А так лестница-то длиннюща! В общем, знаю я, бабоньки, что лежит этот журнал у самого главного начальника в ка-бинете, в шкафу железном несгораемом, что по-научному называется «сейф». За семью замками мудреными и под тридцатью печатями! А как достанет этот начальник журнал, прочитает, так и скажет, что невиновна, мол, Людмила Никаноровна, невиновна! Они-де сами траванулись, как есть сами! И кулаком по столу как гроханет! Тут мне и свобода. Все! - Чой-то ты чудно больно рассказываешь, теть Люсь, прямо как сказку, - закачала вверх-вниз головой седая женщина. Она все так же сидела на стуле, неестественно прямо держа спину и склонив голову слегка набок. - Да не сказку, а все как есть! – возмутилась тетя Люся. - Ага! А самый главный начальник, по-твоему, кто? Губернатор? Или Путин? А? – седая женщина тоже повысила голос, но продолжала сидеть прямо, как статуя. - А хучь и Путин! – приподнявшись на локте, крикнула Люська, - Хучь и Билл Клинтон, и Бен Ладен - неладен. А только папочка-то моя, журнальчик-то, где вся правда записана, у них! - Рассказывай! Темнишь ты теть Люсь. Не сажают сейчас за самогон-то. - Кого и не сажают, ибо откупиться могут. Сказано же – Рашидка выдал, морда чечен-ская. А насчет самогона, ежели ты не слышала – указ вышел – для острастки можно и посадить парочку, кто, мол, торгует. Вот я и попалась! Ы-ы! С тобой дурой тут повелась! Ы-ых! Дайте под-ремать-то бабоньки! - Подремать! – завелась седая, - Так и у Путина лежит твоя бамажка, так и у Путина! Ничего ты не знаешь. Судмедэксперт отдал записи следователю, а тот прокурору, а тому надо дело-то сбросить, вот тебя и посадили. Потому, что надо кого-то посадить! – седая закачала го-ловой вверх-вниз, вверх-вниз, аж пена изо рта пошла. - Чего это с ней? – спросила я у Наоми, которая уже перебралась ко мне на нижнюю шконку, легла рядом, прижалась ребристым боком и, приоткрыв рот, наблюдала за спором жен-щин. - Позвоночник у нее сломан. Муж перебил, давно еще. Вот она и поседела от этого за одну ночь. Полностью. Ну и с головой не все в порядке. Может, нерв какой поврежден. В позво-ночнике - то, знаешь, сколько важных нервов. - Знаю. Железная дверь со скрипом отворилась и в камеру вошел худущий, высокий мужик в ми-лицейской форме. – Чо разгалделись, сороки! – высоким дребезжащим голосом крикнул он. - Да Люська это все! – ответила седая. - Люська? Никаноровна? Бочкина, что опять стряслось? – взвизгнул мент. - А что все сразу Люська-то? – привстала та, - Уж и поговорить нельзя?! - Можно, - согласился мент. – вот с тобой человек поговорить хочет, из прокуратуры. Давай на выход. Люська кряхтя и охая сползла со шконки, похлопала себя по широким боках, погрозила ку-лаком седой и, переваливаясь с боку на бок, пошла к двери. - Слышь, а Наоми – это твое настоящее имя? - Нет, меня Настя зовут, а Наоми – это мой сценический псевдоним, – ответила Наоми. - А ты что, артистка? - Ну, вроде того, - она улыбнулась, подула на упавшую на лицо огненную прядь, - скри-пачка. Я в консе два года проучилась. Играла в скрипичном квартете и в панк-группе. А потом вот сюда попала. Зеленый подставил, с-сука, – она повернулась ко мне спиной, вытянула вверх руку и стала скрести ногтями панцирную сетку верхней койки. - Насть, а ты давно здесь? - Третий месяц. - А седая эта кто? Что с ней? - Верка-то? – переспросила Наоми, - Странная баба. Говорят, она ребенка убила. Не захотела его с мужем делить, тем самым, что позвоночник ей перешиб. Только ее отпустят скоро – признают невменяемой и отпустят.
Часа через два Люська вернулась. Сперва молча ходила по камере, хлопая себя по сдоб-ным, колышущимся бокам. «Охо-хо!» - иногда восклицала она. Потом села на свою койку, закури-ла. - Случилось что, теть Люсь? - тихо спросила Наоми. - Ы-ы-х, - махнула рукой женщина. Шумно затянулась папиросой, а потом резко вско-чила, подпрыгнула, всколыхнулась всем грузным телом, присела, ударила звонко по коленям, - Нашлась тетрадка, бабоньки! Не виноватая я! Отпускают меня! Адвокат приходил, сказал, что это дело в два счета выиграет!!! Не виновата я! Эх, невиновата я! Не виновата ли я! – запела тетя Люся и пошла в пляс. - Вот сука, - тихо прошипела седая женщина. Она все так же продолжала недвижно си-деть на стуле, спиной к окну.
- Говорила я, это все Рашидка виноват, он, морда чеченская! И Жанка – баба его. Это Жанка, гадюка подколодная его надоумила, сам бы он ни в жисть не догадался… - начала расска-зывать Люська. - Ты о чем, теть Люсь? - спросила Наоми. - Да о том, как я сюды попала. Жанка его совратила, одна она, - всхлипнула Люська, - Вот ведь чо удумала, - решила, что ежели меня, Людмилу Никаноровну Бочкину в кутузку упечь, дык можно и квартирку мою хапнуть. Ы-ы-ы, хрен вам! Выкуси! – и показала двери кукиш, - Вот тебе! - А Жанка – это кто? – поинтересовалась я. - Жанка-то?! У-у-у! Сучка-то эта. Рашидкина баба! Сама длиннюща, жопа моей по-ширше будет, а титьки с кулачок! – и для наглядности она приложила два кукиша к своим мощным грудям, - Во-о-о-от! – Наоми захихикала. – А уж рожа-то страшна – нос вздернут, как пятак у сви-ньи, бровей нет, и вся в веснушках, и родимое пятно во всю щеку. А как напьется, так пятно – баг-ровое делается. - И что ж она сделала? - Да вот слушай, всю правду-то. Я и сама догадывалась раньше, только вот рассказать как следует не могла. Вроде все понимаю, что к чему, а объяснить образования, видать, не хва-тает. - Или ума, - буркнула седая. - Помолчала бы, - укоризненно покачала головой Люська, - завидуешь… - Да тебе, суке, только и завидую! - грубо ответила седая. - У-у-у, - погрозила кулаком Люська и повернулась к нам, - О чем это я!? О Жанке? Вот ведь как дело-то было. Квартира у меня трехкомнатная. Большая. Потолки высокие, кухня тоже большая. Отопление, вода, газ, ну там все как у людей. Давно она у нас, квартира-то. Почитай со-рок лет уже. Сперва я с родителями там жила и с сестрой. Потом сестра замуж вышла, в Москву уехала, остались втроем. А там и я замуж вышла, сына родила. Стали, значит, впятером жить. Вот… Да не кивай ты так, - обратилась женщина к Насте-Наоми, - Потому и рассказываю все, как прокурор объяснял, обстоятельно, чтоб понятно было. – Вот так и жили. Мать у меня библиоте-карь, отец начальник цеха на заводе, муж – у, интеллигент – инженер! А я к тому времени в торго-вый техникум поступила, после декрета-то. Так вот и жили, почитай лет пятнадцать. Я потом по-мощником заведующей магазином стала – на перекрестке, где сейчас кафе, такой продуктовый был, знаешь, наверное. Большой магазин, светлый. Не то, что теперь. Прилавков понатыкают – тут колбаса, а рядом трусы. Да-а. А потом муж от меня уехал. Будто его на какой объект в запад-ную Сибирь послали. Собрал чемодан, попрощался и понимай как звали…Вот уж не знаю, но года полтора я его не видела, ждала все из Сибири-то. Только потом мне уж объяснили, что объект его Нинкой зовут, и живет она в пригородном поселке. Остались мы вчетвером. Потом отец умер, вернее погиб. Аппарат у них какой-то на заводе поломался, струя раскаленная хлещет, дым едкий валит. Вот отца-то и задело. В больнице умер. А ведь было-то ему всего 54 года.. Осталась я с матерью и сыном-малолетком. Ничего, жили потихоньку. - Интересная у вас жизнь, теть Люсь, драматическая, - вздохнула Наоми. - Да уж, - согласилась Люська, пошарила в кармане, достала пачку «Примы», зубами вытащила одну, закурила. - Ну, а потом что? - Потом? Так и жили втроем. Потом сын вырос, выучился на сварщика и уехал. Завербовался в шабашную бригаду и уехал то ли в Магадан, то ли во Владивосток. Там и остался. Деньги присылал, мол, мамуля и бабуля, не скучайте, живите богато. И правда, - всхлипнула тетя Люся, - деньгами он тогда здорово помогал. Особенно, когда я без работы сидела, магазин-то наш купили. И осталась я без работы. А Витюшка-то то сто тысяч пришлет, а то и триста, тогда же все на тысячах счет шел. А сейчас, говорят, большим начальником стал, завод у него свой, богатый – жуть! Вот, полгода назад карточку прислал – сидит в высоком кожаном кресле в большущем кабинете, ну, кабинет вроде как по телевизору показывают у всяких там губернаторов и прочих. Деньгами тоже помогает, но реже, говорит, что финансовые затруднения. – Тетя Люся глубоко вздохнула, сглотнула слезу, стала рассказывать дальше, - А в 95-м мама умерла. Тихонько так, и не болела вовсе. Сказали, осложнение от гриппа на сердце. Осталась я одна-одинешенька. А дальше… Дальше вот Рашидка - то и появился. Приходят ко мне из домоуправления, как я одна-то осталась, и говорят: «Вы, гражданка Бочкина одна в трех комнатах проживаете, извольте освободить помещение. Сейчас много беженцев из Чечни, их селить где-то надо, так что будьте любезны, отдайте ему одну комнату». Ну, а я дура-то и поверила. Мне вон и прокурор сейчас говорил, что не имели они права так себя вести, не по закону это. Надо было в администрацию пожаловаться или в суд. Нельзя никого вселять, пусть человек один хоть в пяти комнатах живет, лишь бы платил… А я - то темная, так и поверила, привыкла, что, как скажут, так оно и есть. Вот и поселили ко мне Рашидку. Да ничего, парень тихий, урюком да изюмом на рынке торговал, много не пил, не буянил, дружков не водил. Вот. А я стала самогон гнать и у платформы или киоска продавать. Хороший самогон, брагу на сахаре ставила и дрожжах. А потом еще через уголь прогоняла, так что самогон выходил отменный, никто не жаловался, наоборот хвалили. Тем и жила. Пока два года назад Жанка не появилась. Привел Рашидка домой бабу и говорит: «Теть Люсь, можно она со мной поживет?», а я, добрая душа, и согласилась. У, злая баба! Работать не хотела, за Рашидкин счет жила, да и на мое добро засматривалась. Как-то захожу в спальню – нет зеркала! Куда подевалось? Иду к Рашидке, открываю дверь, гляжу. А эта зараза стоит посередь комнаты голая и в мое зеркало собой любуется. «Вам, теть Люсь, зеркало это ни к чему, вы старая, да и не поместитесь в него, а мне оно нужнее!» Эх, я ей космы-то натрепала! А потом и вовсе беда- то продукты из холодильника пропадут, то деньги из тумбочки, то перстень золотой, от матери остался, исчезнет… Так-то, бабоньки… - Н-да, - вздохнула Наоми, - хоть кино снимай. - Да тут похлеще кина будет! Вот, дальше-то слушайте. А тут Жанка, вроде как измени-лась, вдруг вся такая ласковая, как кошка, все теть Люсь, да теть Люсь… Вы уж простите, что я так… Уж просите… Тьфу! И стала вроде как намекать, чтоб я и ее тоже прописала. Ей бы тогда и работу легче найти, с пропиской-то. Вот так каждый день и канючит, пропишите, да пропишите. А сама мне и по дому помогает – и стирать, и пол мыть, и даже самогон гнать. А раньше-то, тьфу! Унитаз за собой смыть не могла, вот какая стерва! Ну, а я добрая душа и прописала. Сначала временно, на три месяца, а потом и постоянно. Ну, тут Жанка и остервенела вконец! Чой, это вы тетя Люся одна в двух комнатах, а мы вдвоем – в одной? А у нас, между прочим, скоро ребеночек появится! Нам еще комнату надо! Ну, я и сказала, все, что о ней думаю. А потом… - тетя Люся замолчала, защелкала пальцами, закурила еще сигарету. - И что потом?! – тихо спросила Наоми, смешно вытяну шею. - Потом? А потом вот померли эти двое… Как стали узнавать, где самогон они брали, Рашидка и указал на меня. Жанка научила. Сам он, душа грешная, ни в жисть не догадался. А от-равились они и не самогоном вовсе. Хороший у тебя самогон, сам пробовал, даже лучше водки, - это мне участковый говорил. Ацетону она подмешала, стерва кудлатая, ацетону! Дескать, я лю-дей травлю! А как посадят меня, так вся квартира, ей, гадюке, и отойдет! Так что отравились они ацетоном, сердешные, так и этот дохтор их говорил, который трупья осматривал. - Вот сука, - прошипела седая. - Ага, - закивала тетя Люся. – Выкуси, рыжая! - и она погрозила кулаком. – Так что не виновата я. Совсем не виновата. И квартира моя полностью, так как Рашидку ко мне незаконно подселили. - А что ж как долго решали-то? - Долго?! Да бумаги мои, когда от начальника к начальнику переходили, видать одного начальника-то на повышение отправили, а нового еще не назначили. Вот и положили бумаги в сейф, дескать, потом разберемся. Вот и разобрались, слава те Господи! – и тетя Люся трижды перекрестилась. - Ничего, теперь тебя опять судить будут, помяни мое слово! За незаконную предпри-нимательскую деятельность. За то, что самогоном торгуешь без лицензии! – закачалась на стуле седая. Тетя Люся только махнула рукой. Уже вечером, когда в камере погасили свет, она тихо подошла ко мне. - Слышь, - потрепа-ла она меня за плечо. Я резко вскочила, ударилась о сетку верхней шконки, где спала Наоми. – Тише ты… Поговорить с тобой хочу. - Говорите, - безразлично ответила я. Спать мне совсем не хотелось. - Не верю я, что ты убийца, глаза у тебя грустные. Не верю. Трудно тебе, придется девка. Ох, трудно. - Куда там, - вздохнула я. - Может, расскажешь тете Люсе, что случилось-то, а? – она попыталась заглянуть мне в глаза. Ну, я и рассказала. Как познакомились, о чем говорили, как он меня провожал, как смешно пытался поцеловать. Ну, про этот вечер в кафе тоже и про последний разговор. И про последнюю ночь дома. - Н-да, - призадумалась тетя Люся. – Странно как-то. Вроде и виновата ты, и обвинить тебя тоже не в чем. Только вот, ты ведь не девочка уже. Что, жалко было дать? Убыло бы? Я скривила недовольную брезгливую гримасу. – Противный он, сопливый. Как младенец но-сом шмыгает, а вы о таком. Мне мужчина нужен, а не сопливчик. - Смотри девка, довыбираешься… Смотри. Прынц ей нужен. Рыцарь… Только где их возьмешь, рыцарев-то. Вот они слабаки – чуть баба не то сказала и в петлю… - Знаете, теть Люсь, смешной он был, жалко его. Все за руку возьмет, в глаза смотрит: «Поцелуй Вовку, да поцелуй Вовку», просит. А я над ним смеялась. А еще все спрашивал, что не обижусь ли я, если он с другой переспит. - Чой? Так и спросил? Правда что ли? – от удивления засипела тетя Люся. - Ну да. «А если я пересплю с другой женщиной ты не обидишься?» - Во дурачок! Хм, надо же такое сказать. А ты бы что, обиделась? – и грузная мягкая рука тети Люси легла мне на плечо. – Не, правда бы обиделась? Во, дурачок! Но ты все равно, слишком груба была, надо было бы поиграть глазками-то, обнадежить… Ишь ты, носом шмыга-ет… А ночью мне приснился Миша Франкенштейн. Мы шли с ним за руку по пустынной круглой, залитой светом трех лун центральной площади Телавлара. Теплый несильный ветер гонял по каменным плитам яркие бумажки и сухие кожурки от плодов, раскачивал разноцветные фонарики у нас над головами, трепал волосы. Наконец Миша произнес: «Зря ты так с ним… Хороший же парень. На таких Вофслах мир и держится». - Почему? – не поняла я. - Да потому, что он – нормальный человек, такие как он нормально работают, женятся, детей рожают… А мы с тобой… Мы с тобой просто выродки…, - он немного помолчал, замедлил шаг. Мы не отпускали рук друг друга. Ладонь у него была небольшая, сухая, на удивление мягкая и уютная, но холодная. – А потом… Я еще и свою вину немного чувствую.. ну, что ты здесь… - Ты –то при чем? – пожала плечами я. - Да то, что встал между вами. Он же меня ревновал. Ну, думал, что мы вроде с то-бой… Если бы не я, так ничего бы и не случилось, правда… давай, я тоже следователю расскажу, что это я виноват, а не ты. Да, кстати, ты не знаешь, что с ним произошло, с Вофслой-то? - Не-а, все молчат. Или скрывают что-то, - Миша до боли сжал мою ладонь. - У тебя руки холодные, - тихо сказала я. Миша ничего не ответил. Я обернулась и с ужасом отдернула руку. Миши уже не было, а на его месте стоял ожив-ший каменный истукан желтого как прокуренный зуб камня. Истукан криво и противно улыбался, шлепал толстыми губами и катал глазами: «Ничего, привыкнешь, - проговорил он, - Ты даже не пробовала. Тебе ничего не придется делать, только любить» - голос у него был гнусавый, дре-безжащий и до боли знакомый. Через два дня тетю Люсю освободили прямо в зале суда.
Мартовским солнечным утром, когда одуревшие от внезапного тепла воробьи полощут пыльные перышки в лужах, когда по жестяным подоконникам грохочет падающая с крыш вода, когда косматые коты с расцарапанными носами, рассевшись на деревьях, дерут глотку, а по пер-вым проталинам важно, по-хозяйски, вышагивают носатые грачи, меня выпустили из камеры. И я, тоже слегка одуревшая и оглохшая от свалившегося на меня солнечного света и звука, от теплого бархатистого ветра и запаха тающего снега стояла на крыльце, запрокинув голову, сощурив глаза и приоткрыв рот. Вот она, свобода! - Эй, как там тебя?! – окликнул меня кто-то, - Подвезти? Звал меня тот самый мент, похожий на молодого актера Леонова, толстячок майор Бобков, который ровно пять недель назад сам ввел меня в камеру. Он стоял возле пыхтящего, чихающего сизым дымом ГАЗика, в одной руке сигарета, в другой – серая ушанка и глупо улыбался. – Под-везти? В вонючем тесном «ментовозике» кроме меня, майора Бобкова и лопоухого парнишки-шофера, не расстающегося с сигаретой, сидел еще одни тип – бритый налысо мужик в дорогом кожаном пальто. - А что я ему еще три месяца назад говорил? Что невинных людей сколько вон переса-жал, а раскрываемости никакой! – возмущенно говорил лысый, - А он, погодите, товарищ Терен-тьев, погодите, новый метод, графологическая экспертиза… Тоже мне, Пуаро! Настасий Камен-ский! Ну, за что, спрашивается, в прошлом месяце он девчонку упек? Там же дураку ясно – суи-цид! Дурь в голову парню ударила, он и того! Я ему – ну, какая она убийца? А он: «Погодите, то-варищ Терентьев, я ее выведу на чистую воду». Или бабку эту, самогонщицу – тут посложнее случай, ну зачем ей народ травить, зачем? Ей же жить надо на что-то, хоть на самогонные деньги, а просто так травить, ради интереса… А он только, - вот Яков Палыч, он разберется, он не про-сто графолог, он психолог-эзотерик, он экстрасенс, он гигант мысли! Так бы и пересажал бы пол-города этот гигант! Баран! – и лысый тип в дорогом пальто смачно плюнул в окно. За пыльным стеклом мелькали дома и деревья, мокрые, ошарашенные, испуганные вне-запно обрушившейся на них весной. Проваливаясь в лужи, шли люди в разноцветных куртках, грязные забрызганные машины, переваливаясь в боку на бок, пружиня, рыча и чихая дымом, преодолевали водные преграды. - Извините, - обратилась я к мужчине в кожаном пальто, - с тем парнем, ну, который по-кончил с собой, с ним что случилось… В смысле, он отравился или, может, из окна бросился… - Это не наше дело, - не поворачиваясь, коротко ответил лысый. - А из-за чего, вы тоже не в курсе… - А, чушь какая-то. Девка ему не дала, вот он и психанул. Идиот! Человека из-за него месяц в камере гноили. - Да таких сразу давить надо, - добавил водитель, - Еще мужик называется, штаны не-бось носит. Вернее носил, - и засмеялся, обнажая крупные обезьяньи зубы.
На перекрестке, в двух кварталах от собственного дома я попросилась сойти. Спрыгнула прямо в лужу, забрызгав джинсы и подол куртки. Медленно побрела мимо длинного пятиэтажного дома, школы, магазина, опять дома, еще дома. И тут меня остановил Запах. Запах этот был зна-ком мне и преследует меня с детства. Я не могу его описать, потому, что он не похож ни на один из знакомых вам запахов. Свежий и одновременно терпкий, холодный и одновременно согреваю-щий, приятный, успокаивающий и вдруг вселяющий волнение и тревогу. То нежно-фиалковый, то багрово-красный, то небесно-голубой, а то и антрацитово-черный. А может, запах этот существует только в моем воображении. Запах вел меня, и я шла по его узкой тропинке, петляющей между запахами дорогих сигарет и дешевых духов, едкого пота и птичьего помета, тающего снега и пы-ли, выбитой из ковров. Я выделяла его из запахов бензина, пива, мартовских котов. Запах то об-волакивал меня, дразнил и звал, то исчезал, переходил на другую сторону улицы, и я провалива-ясь по щиколотку в холодные лужи, покорно шла за ним. Остановилась я у маленького двухэтажного дома, желтенького, с крошечными балкончика-ми. На низенькой скамеечке сидела старушка в сером пуховом платке и черных очках. Старушка была слепая. Я присела рядом с ней. - Извините, - сказала я, - говорят, что слепые чувствуют запахи лучше зрячих, вы не знаете, что это за запах? - Запах? – пожевала губами старушка, - это запах смерти. - Смерти? – переспросила я. - Да. Вот как печалится, Таймыр-то, - и она, повернув лицо, указала на худую неухо-женную собаку породы лайка, белую в рыжих пятнах. Собака сидела возле покосившегося забора и жалобно смотрела на окна первого этажа. - Собака? – переспросила я. - Да, с тех пор как Коля-то умер, уж почитай две недели. Так он и тоскует. Тоша, То-шенька, иди сюда… Нет твово хозяина, бедняжка. – И старушка поманила собаку. - А кто такой Коля? Хозяин?! – догадалась я. - Да. Инвалид он был. Все в коляске ездил, каждый день катался, и Таймыр рядом бе-жал. Так дружно жили… - старушка помолчала немного, потом спросила меня. – А ты не здешняя что ли? Или приехала откуда. - Почему? Здешняя. Месяц всего отсутствовала. - Значит, не знаешь… - Чего? - Да тут все об этом только и говорили. Парень убился из-за девки. Я-то слепая, не ви-дела, только слышала. А говорят и в газетах писали и по телевиденью, и по радио, мол, погиб из-за несчастной любви. - Погодите, а что с ним случилось? Отравился он или что… - А этого, дочка, никто не знает. Знаю только, что девку эту, из-за которой он того, посадили. Зря только, невиновна она. - Послушайте, а может, он и не любил ее вовсе. Потому, что если бы любил, то доби-вался бы, ухаживал. А он как размазня какая-то бац! и помер. Подумаешь, девка отказала! Что, так сразу и в петлю прыгать! Баран он! – стала объяснять я. - Слаб нынче мужик, - закивала старушка. – А девка та все равно не права. Чай не принцесса, могла бы и уступить.
«Коварная красавица довела молодого мужчину до суицида». И все это - поверх фотогра-фии, вернее фотомонтажа – лицо мое, а вот прическа, тело – от какой-то плейбоевской модельки. Монтаж этот я сделала месяца три назад. А они, вот бестолковые, приняли его за мое реальное фото. Бараны! Подождите, какого черта обо мне пишут на первой полосе газеты? А вот еще – «Загадочное самоубийство. Джульетта ответит за свой поступок». Я стою у газетного киоска и ту-по изучаю первые полосы таблоидов, выставленных в витрине. А я, оказывается, пока в тюрьме сидела, знаменитостью стала. Только интервью я никаких не давала, в обнаженном виде не сни-малась, особенно на нарах. И суда никакого не было. Бред какой-то! «Обстоятельства смерти Владимира Кузнецова выясняются» - гласил другой заголовок. Или - «Версия о самоубийстве 25-летнего мужчины вызывает все больше вопросов». Ага, вот еще смешнее – вроде бы моя фотка - обнаженка в полный рост, вместо трусиков какие-то цепочки на бедрах намотаны, в одной руке окровавленный нож и заголовок: «Красавица-чудовище». Круто! Верчу головой, изучаю глянцевые обложки, криво улыбаюсь, а вокруг меня уже толпа собралась, человек в восемь. Встали полукру-гом, смотрят на меня, изучают. - Ой, как на вас похожа, - качает головой женщина лет сорока в сером берете и с ог-ромным рыжим котом на поводке. - Кто?! – вздрагиваю я. - Она, - женщина показывает на обложку с «красавицей-чудовищем». Рыжий котяра крутит лобастой башкой, натягивает поводок, рвется обнюхать мои ботинки. - Правда, правда.., - кивают остальные. – Вы ведь артистка, да? А на самом деле что произошло, вы не знаете?! Ну, правда, что она его убила? Не знаете? - Дураки какие-то, - бурчу я под нос и, работая локтями, вырываюсь из оцепления. – Бред какой-то! Наверное, сейчас проснусь, и все будет иначе. Ну, не в самом же деле все это про-изошло?! Все произошедшие со мной события никак не укладываются в голове, а главное - я ничего-шеньки не помню. Ни как прожила в тюрьме эти полтора месяца – разговор с тетей Люсей помню, а дальше – тишина, ни, как и за что меня освободили – помню только что бац! – стою на крыльце, и воробьи с капелью надрываются. А самое главное – не помню, вернее не знаю, действительно ли по моей, как утверждают, вине произошло это «загадочное самоубийство». Нашариваю в кар-мане пачку сигарет, машинально закуриваю. - Девушка, телефон, - дергает меня за рукав молодой парень в синем до пят пальто. Симпатичный, улыбчивый. - А? – вздрагиваю я, - какой телефон?! – и растерянно хлопаю себя по карманам. - У вас телефон звонит мобильный. По-моему, он в левом кармане, - подсказывает улыбающийся парень в синем пальто. Я дрожащей рукой нашариваю во внутреннем кармане пищащую коробочку с антеннкой, вытаскиваю ее на свет, откидываю крышечку – «Алло? Кто это?» Телефон замолкает. Я тупо смотрю на крошечный экранчик и на надпись: «Абонент вре-менно недоступен». - Новая модель? Разрешите посмотреть, - заглядывает через плечо парень в пальто. Я молча протягиваю ему телефон и шагаю прочь. В лицо мне светит мартовское солнце, на деревьях орут коты, на скамеечках, вытянув ноги в залатанных валенках, дремлют старички и ста-рушки. - Девушка, вас! – догоняет меня парень в пальто и вручает телефон. – Поговорите же с ним! - Алло? Ты? А что случилось? – ору я в трещащее пространство, расположенное по ту сторону трех крошечных отверстий в крышке телефона. - А я извиниться хотел за вчерашнее, - раздается где-то далеко-далеко, высоко-высоко над весенним мокрым городом, над смешно задравшим голову в серой ушанке майором Бобко-вым, над скамеечкой с дремлющей на ней слепой старушкой в ногах у которой сидит белая с ры-жим лайка, над шлепающей по лужам толстой тетей Люсей, несущей в авоське бутыль с самого-ном, над круглой, залитой светом трех солнц телавларской площадью, над беломраморными ста-туями светлых богов робкий, дрожащий, но такой родной голос. Я просыпаюсь от телефонного звонка. |
проголосовавшие
комментарии к тексту: