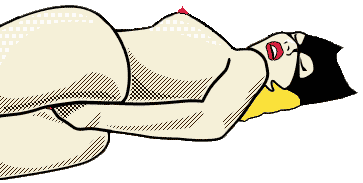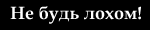Раньше я на Брянском вокзале жил, пока шпана за горло не взяла. Если и с ними еще делиться будешь, с голодухи подохнешь. Там ведь как было: вещи кому поднести, а у кого и сбондить не грех, если зевает по сторонам. Но уж если попадался, били так, что три дня отлеживался. Овчинка выделки не стоит. Ушел я оттуда. Потом по-другому наловчились: налетим вдесятером на лоток, толкаемся вокруг, так, что продавщица и не знает уже, за кем следить-то, один в это время цап чо-нить — и дёру, а баба-дура или плюнет, или за ним побежит. Если побежит — бери что хочешь. На Сухаревке так всей оравой промышляли, только проку мало — одному-то еле хватает, а ну-ка на десять ртов подели? И спали там же, у сортиров, вповалку. Сдерем афишу с тумбы, накроемся — и утром милиционер будит. Сортиры там теплые, только воняют сильно. Ну, когда морозы, нам не до того, чтобы нюхать, тут главное — руки-ноги не отморозить. Еще под клифт газет старых напихаешь — и совсем тепло станет, как в шубе. А еще лучше — когда на дачу чью-нить залезешь; если там дровишек найдешь — тот еще кейф пойдет. Одно плохо — контролеры по дороге семь раз выйти заставят. Там тоже надо вместе держаться — прыснем во все стороны, а контролер догоняет, горло надрывает, лох деревенский. В подвалах и на чердаках я бы и рад ночевать, но там тоже или белье сушат, или дров навалят, или бебехи свои держат, как будто квартиры им мало. Парадные все заколочены, вход только со двора, а ворота на ночь запирают. Сейчас осень еще, я сам по себе хожу. Где милостыню попрошу, где потолкаюсь по рядам и в шкары залезу кому-нить, а то и до чердачка дотянусь. По скулам шарить опасно, и деньги там лежат большие, да я и не умею так, это резать надо. А в шкары одну мелочь суют — кто из-за пятака за мной гоняться станет? И когда лопатник вытащил, к примеру, — без затырщика трудно. А ну как за руку поймают? На понт фраера взять можно, конечно. Можно так базлать, что его самого вместо тебя мильтоны уведут. Сам видел тыщу раз, как старшие работали, только малой я еще, чтобы за фраера канать — сразу видно: шкет с улицы. Не поверят. Таких как я в милицию не ведут — на месте бьют, больно. Один при мне аж легкие по кусочкам выплевывал — так били. Ну, и чахотка у него была, конечно, — так прямо фонтаном кровь из горла пошла, когда по ребрам-то пинали. Я и сам покашливаю, и знобит все время, но кровью не харкал, слава богу. Одному холодно спать, даже летом. Летом такие ночи бывают, что колотун прямо. И знобит, как я сказал уже. И вот я как-то заприметил рабочих, они улицу асфальтировали. На Рождественке делали что-то, там яму зачем-то вырыли, покопались в земле — и снова асфальтом сверху. А эту, смолу черную, которой они всё заливают, в котле варили, большом таком, с меня ростом. Я всё крутился рядом — дождь шел, ветер, так я на огне руки погреть хотел. Рабочие злились сначала, что я под ногами-то верчусь. Перекинулся с ними парой шуток — и вроде как своим стал, не гоняли уже ближе к вечеру. День рабочий у них кончился, и они пошли куда-то в общежитие, а я у котла остался, руки держу у теплых боков. Заглянул внутрь – а смолы ихней на донышке совсем. Ну, и залез туда. Тепло, хорошо, ветер ниоткуда не дует. Так и заснул. Сквозь сон слышу — ломовые извозчики мимо едут, цок-цок-цок по мостовой, колеса скрипят и мат трехэтажный. Машины гудят, трамвай зазвенел где-то далеко. И голос сверху, веселый такой: — Вылазь, шкет. Ишь ты, как птенец устроился! Вошей, небось, нам полный котел напустил, заместо гравия класть будем. — А лицо у парня приятное, волосы светлые, зубы белые-белые, подбородок прямо как у рабочего на плакате, и глаза такие же, синие, яркие, аж смотреть в них больно. Кепка модная, будто не на работу вышел, а на пруды, барышень в лодке катать. — Ну, вылазь, кому говорю? Прилип, что ль? И правда, прилип я. Дык он меня вытащил сам, не побрезговал. Смотрит на меня — а я весь в асфальте присохшем. Он мне клифт почистил, напевает романс какой-то: Она казалась елочной игрушкойВ оригинальной шубке из песцов, Красивый ротик, маленькие ручки — Такой изящной феей дивных снов. —
— Ну, беги давай по своим делам, красивый. Задай вошкам жару. Вот золото-парень! Его все Володькой звали. С ним еще четверо пришли, вчерашние: бригадир ихний Филипп Филиппыч, лет сорока, со шрамом от сабли на щеке; потом старик Матвей Никифорыч, который меня вчера всё норовил лопатой огреть по заду; третий — цыган с виду, черный такой, кучерявый, то ли Мейман, то ли Мехман, и последний, малой совсем, его звали Костей. Костя грязный был почти как я, и в буденновке. Все папиросы курили, кроме деда Матвея — тот полоски от «Правды» отдирал и крутил «козью ножку» по старой памяти. Ему табак сестра с Кубани присылала, самосад. Я затянуться попросил — ядрёный, аж слезы из глаз брызнули. А он смотрит и знай посмеивается. Вчера лопатой шугал, а сейчас хлебушком угостил еще. Задумался о чем-то, вздохнул — и за работу, гравий ихний разравнивать. Ну, я-то на Сухаревку побежал, карманы щипать. Возвращаюсь вечером — а они уже укатали всё, по домам собираются. Это значит, котла-то здесь не будет завтра! И я ну реветь в голос: — Дяденьки, вы на какой улице завтра будете? — А сам слезы рукавом утираю, будто мне и правда с ними расставаться жаль. Володька ухмыльнулся: — На Сретенку перейдем. Ишь, неотвязный какой. Посторожить, что ль, охота? У нас, видать, котел такой особенный, заместо фатеры тебе служит. И Филиппыч: — Ну, сторожи, шкет, коли не шутишь. Глядишь, и на довольствие тебя возьмем. Ну, забрался я в котел, сижу, пирожки с капустой хаваю — стянул на толкучке у бабы одной. Тепло, уютно — красота, липко только. Надо железа кровельного раздобыть — мало ли, дождь пойдет? Будет у меня заместо крыши. Только что окон нету. Если сунется кто из наших — сопатку разобью. Мой котел, пусть знают. Я его сторожу. А на Сретенке — раздолье! Дома высокие, по четыре этажа, колокольня до самого неба — красота-то какая! В ясный день аж дух захватывает. Магазин там универсальный, громадный — народу тьма, все толкаются, орут друг на друга, выясняют, кто там антисоветчик и кто кого обсчитал. Можно смело руки совать во все авоськи , в карманы —никто и не заметит в матюгальнике этом. И рынок еще Ананьевский, там тоже народ толпами ходит, а мне так работать легче, когда протискиваешься между людьми. И сдачу в карман суют не глядя — спешит народ. Бывает, что и сами мимо кармана положат — только подбирай. Трамваи звенят, мостовая трясется, бабы голосят в давке, ломовики лошадей своих матерят, а я всё стараюсь в этой суматохе урвать понемножку. К концу дня, глядишь, и наберется на хорошую еду. А не наберется – дык стяну чо-нить, мне не привыкать. Ну, дурак я, дурак. Мне бы сразу сообразить, что нельзя гадить там, где ешь, мои-то рядом асфальт кладут! А я тут же трусь в толпе. Ну, и заметил Никифорыч, как я бабенке одной ситцевой в кошелку залез. Он как раз рядом в очереди стоял. И выбуривает на меня, как на врага народа. Слава богу, хипеж не поднял, а мог ведь, мог! Только головой покачал с укоризной. Я как в руке зажал что-то мягкое, так и застыл. Положил потихоньку обратно. Мать моя Пресвятая Богородица! Чуть в штаны со страху не наложил. Никифорыч меня молча из магазина выволок под локоть: — Чтоб я этого больше не видел, шкет! А не то первый тебя в милицию сведу! — А глазищи-то под седыми бровями, мохнатыми, сверкают! Ухватил за ухо, приволок к нашим, заставил гравий раскладывать лопатой, чтоб, дескать, неповадно мне было по карманам шарить — трудовое воспитание получал чтобы. Филиппыч на него тут же загавкал: — А зарплату из своего кармана ему платить будешь, дурак старый? Я лопату тут же бросил и на Сухаревку убежал. Как оборвалось что-то. Гад ты, Филиппыч, гад, сволочь! Дед Матвей потом глаза прятал, а нет-нет, да и зыркнет на Филиппыча из-под козырька кепки. Нехороший взгляд был у деда Матвея. Я бы, кажется, умер на месте, посмотри он так на меня, а с этого как с гуся вода. Два месяца туда-сюда за ними мотался. Куда они — туда и я. Понял, кого мне Володька напоминает — батьку моего на фотоснимке. Такой же молодой был. Я его не видел никогда, в двадцатом его подстрелили где-то, то ли в Одессе, то ли под Киевом. Мамка и не знала, где. А я тогда малой был совсем. Одна карточка осталась, дома у нас на беленой стенке висела в Чугуеве, рядом с карточками мамкиной семьи. У мамки на карточках родители строгие были: сидят на венских стульях, уставились, глазами белесыми тебя буравят; бабка — в платке черном, дед — в лапсердаке и шляпе, серые оба, и детишки вокруг них тоже серые, кучерявые, и тоже глазки-пуговки оловянные, а батька улыбается живыми глазами, с искоркой на зрачках, и волосы светлые, и лицо доброе-доброе. Сам я в мать пошел, у нее волосы были черные, вились, и глаза огромные, карие, с тяжелыми веками, и нос с горбинкой. Ее жидовкой все соседи звали. В Одессе от сыпняка умерла. А Володька как есть батька мой. Иногда свернешься клубочком в котле и мечтаешь, чтобы Володька за своего признал, сказал бы: «Пошли со мной жить, кудрявый». Я бы пошел. Только он так и не позвал. Два раза с получки конфет мне покупал — и то приятно. Я бы и сам купил, а все равно приятно, что угостил. Едой со мной они оба делились — то он, то дед Матвей. Я бы и сам себе добыл, а все равно брал, чтобы хороших людей не обидеть. Филиппыч и корки плесневелой не дал бы, а Костя и у меня бы еще отобрал, тварь несытая. Пакости мне разные устраивал — ржавый гвоздь однажды оставил в котле, воткнул торчком посередке. Хорошо, я заметил —так бы всю задницу себе изуродовал. Иногда набегаешься с утра, сидишь с ними, отдыхаешь, и Володька с тобой как со взрослым разговаривает, и слушает внимательно, а мне есть о чем рассказать, это уж точно. Он как-то признался, что в его жизни и половины того не было, что со мной случилось, и в местах таких он не бывал никогда. Моря не видел ни разу. А дома-то тепло сейчас, хорошо, голодно только. И вода прозрачная, зеленоватая, солнечные зайчики сеткой по дну, медузы ленивые, стрекучие, и рыбу еще не всю, кажись, выловили, и мидии на скалах — только отдирай, а потом их на костре печь можно. Подождешь — и они сами откроются. Мясо у них оранжевое, вкууусное… Купаться можно еще, вода теплая, соленая, сама держит. Ракушечник солнцем нагретый, шершавый, морем пахнет. Снизу камни водорослями покрылись, как бородой зеленой, и волны эту зелень треплют. Ляжешь на камень — и дремлешь. Кой черт меня в Москву занес? * * * — Ну, признайся, ты вытащил, шкет? — Филиппыч за шиворот держит, аж дыханье сперло. Ноги еле носками до земли достают — щас задушит! Мать моя, Пресвятая Богородица! Я в руки его вцепился, в глазах темнеет уже: — Не брал я, не брал! Богом клянусь! — Нехорошо Господа нашего всуе поминать, Вася. — Говорит дед Матвей. — Пусти его, Филя, сам покается, у Бога прощенья попросит. — Матвей Никифорыч, не брал я! Отдышался — и в слезы. Ведь правда не брал! Стал бы я у Володьки моего любимого эту тридцатку тырить? Получка у них вчера была, гуляли, в пивную ходили куплеты слушать. Может, сам и обронил или, того хуже, потратил и забыл по пьяни. Может, вытащил кто. А Матвей снова: — Признайся, Васенька. Деньги-то немалые, Володьке еще целый месяц жить на что-то надо. — Добрым таким голосом, аж за душу берет. Уже пожалел, что не сам стырил, — вернул бы щас. И есть у него еще деньги, у Володьки. Чай, не последнее потерял, у него еще втрое больше осталось. На хлеб хватит, еще и на колбасу останется. — Не брал я! — Ору до икоты. Отдышался, носом пошмыгал — нет, не жалко им меня. А Володька себя держит так, будто меня и вовсе тут нет. Не замечает, как сквозь стекло смотрит, будто я не человек, а место пустое. Я ему: — Володенька, родненький, Богом клянусь, не брал я твоих трех чириков! Я тебе сам бы еще принес! А он отмахнулся: — Гуляй, Вася. Принес бы ты, как же там. Мехман этот черномордый на корточках сидит, зубы скалит. Ухмыльнулся — и пар изо рта, подмораживать стало по утрам. Вывеска универсального магазина над головой от ветра поскрипывает, дымом пахнет, навозом лошадиным, на краях котла иней за ночь появился. Им в бушлатах тепло, а у меня зуб на зуб не попадает, в летнем-то клифте. Трясусь весь, а они, может, думают, что от страха, — совесть, значит, нечиста. Хорошо хоть, у меня в папахе уши не мерзнут и платок пуховый на шее. Тоскливо мне стало… Я плакать попусту перестал, только губы дергались, не мог с ними сладить. И глаз левый щуриться начал — так всегда бывает, когда волнуюсь я. Как будто подмигиваю кому… — Ладно, — говорю, — не верите — так черт с вами. И ушел на Сухаревку. Что они мне, семья, что ли? Оправдываться станешь — точно подумают, что я и стырил. Сам иду и думаю: Володька-то не привык на копейки жить. Он парень молодой, бабам нравится. Ему и за хавиру свою платить надо, и девушку в кино, и рубашки в прачечную, и костюм сшить, и жрать что попало он не станет. Это я из помойного ведра в двадцать шестом таскал обрезки, так ведь то я, а не он. Найдешь кочерыжку или огрызок яблока — и кейф такой! А он из тех, кто эти кочерыжки в ведро кидает, потому что жесткие. И бычки я с земли подбирал, а он из тех, кто бросает недокуренную, чтобы такой как я подобрал. Стянул пачку папирос с моссельпромовского лотка — продавщица сонная и не заметила, ежилась, в платок куталась, глаза терла. Пальцы в серых митенках у нее озябли — погрела во рту, зевнула. Еще бы – вставать в такую рань. Я даже убегать не стал — отошел в сторонку. Затянулся, дым через нос пустил — согрелся малость. И не поймешь, дым папиросный или пар от дыхания. Клубами в небо уходит. И тут как-то само собой в голову пришло: принесу ему его тридцатку. В лепешку разобьюсь — а принесу. Пусть подавится тремя чириками своими, Иуда. Что я ему, нищий какой? Опять же, спать где-то надо. Мои на Брянском перо при встрече обещали, туда соваться стрёмно. У сортиров тошно спать, и вши чужие стадами бегают. У меня своих-то до чертовой бабушки, но здоровых, а чужие могут с сюрпризом оказаться — сыпной тиф или еще чё-нить. Мало ли, какая зараза на них? По правде говоря, неудобно в их котле до жути. Твердо, скрючишься весь, металл за ночь выстывает — так и спину застудить недолго…
* * * Поболтался у кондитерской — туда народ ходит небедный, конфеты шоколадные по девятнадцать за за кило продаются. Но лох я все-таки, день-то рабочий. Только курьерши за сахаром и булками забегали, а к ним в сумку попробуй залезь. Я внутрь и заходить не стал, чтобы на пирожные не глядеть, душу не травить себе. А пахнет оттуда… Есть такое пирожное, «наполеон» называется… Потом девчоночка смазливая такая прибежала, беленьким пуховым платком по самые глаза замотана, в пальтишке коричневом и ботиках. Хорошенькое такое пальтишко, новенькое, с иголочки. Лет шесть ей было, не больше. Я ей: — Слышь, почему не в школе? Она о порожек чуть не споткнулась, уставилась на меня удивленно: — А тебе-то что? И застыла как вкопанная у входа, за дверную ручку держится. Варежки тоже беленькие, пуховые. Прелесть, а не девочка. Картинка. Глазищи серьезные такие, большие, серые. Добрые. Не девочка, а подарок. У нее, наверно, друзей мало, раз с каждым встречным-поперечным готова болтать. Ну, так слово за слово, она сказала, что ее Томкой зовут, у нее день рожденья вчера был, так вот она за конфетами пришла, а в школу ей еще рано, на будущий год пойдет. Зубки у нее были такие беленькие, ровные, как сахар пиленый. Я еще спросил: — А знаешь, что от сладкого зубы портятся? — Ну и что с того? — Зубки у тебя красивые, вот что. Она улыбнулась, как актриса на афише. Соплячка еще совсем, а туда же, кокетничает. Я к тому времени уже кармашки ее пальто обшарил. Шуршало там очень даже недурственно, а она болтала и болтала, даже не заметила. Я примеривался так и эдак, а потом прямо так, нахалом руки туда сунул Попрощались, она в кондитерскую входит довооооольная… Хорошая девчонка, приветливая такая. В другое время я бы ей сам на конфеты дал. Может, встречу еще и куплю… Хорошая девчонка. Три рубля с нее заимел. Для такой малолетки многовато. Не иначе, папаша у нее инженер или совслужащий. Может, и на машине служебной катается с ним. Как ее одну отпустили — ума не приложу. Недоглядели, я чую. Нянька уже обыскалась, наверное. Иду по скверу к толкучке, а сам прикидываю: я на трешник этот всё утро убил. Нельзя так. Я так три дня по мелочам щипать буду, да и девочек вроде нее не часто встретишь. Может, стоит рискнуть? Но у меня на Сухаревке друзей таких не было, чтобы помогли, да и народу было не так уж много, на службе все. Бабы, которые продают бутерброды, пряники и всякое разное, на венских стульях расселись, ноги жирные развели, мешки свои под табуретки поставили, товар разложили и ждут. Не сунусь же я посреди площади к торговке в карман? Ну, и решился на свой вокзал родимый податься, обратно. * * * Оглянулся — нет шпаны на остановке. Только мои приятели прежние. Часа два по городу шатался, решиться не мог. Не делал я этого никогда, не умею. Видел, как другие перепуливают, а сам не пробовал, да и кто согласится с таким работать? Кому охота из-за меня загреметь? Они так и сказали: жить, мол, не надоело еще. И Степка то же самое сказал, корефан мой самый лучший. Сами перетрусили, к стенам жмутся, рукава клифтов до земли, папахи из смушек прессованных, засаленные, захватанные; рожи чумазые, носы от жира блестят. Выбуривают на меня гляделками, как мыши из крупы. Как будто я спектакль какой им щас устрою, мартышкам глупым. Три раза прикрикнул, чтобы не глазели, внимание не привлекали. Вот и народ повалил с вокзала дикий — бабы в салопах и ботах, мужики какие-то, деревня деревней, с узлами все, с чемоданами потертыми, обвязанными веревкой, с сундучками, баулами. Все за барахло свое трясутся. Сразу ломовики понаехали, эти деревенские орут, торгуются, плюют под ноги. Детишки семечки лузгают, шелуха летит во все стороны. Мамаши их на узлы прямо сажают, чтобы сторожили. Дуры бабы, мне деньги нужны, а не барахло ваше жалкое. Хоть сожрите вы его, чтоб целее было. Сунул одной такой бабе ситцевой руку под юбку, кошель уже нашарил. И тут она оборачивается и говорит: «Малой еще, в пизде-то ковыряться! Пшел вон, бесстыжий, пока на месте не прибила! Страм-то какой!» Ох, как мне стыдно стало! Я ей, жалобно так: — Простите, тётенька! Ну, огрела она меня по затылку, тем и кончилось. Пронесло. Что ж я неумеха такой, Господи? Потом вижу: господинчик приличный такой идет, на пальто меховой воротник, шапка бобровая пирожком. Саквояжик в руке. Оглянулся он и на трамвай в этой давке пробирается. Я за ним пристроился и тянусь, тянусь до скулы, до кармана внутреннего в пиджаке. Чувствую, твердое что-то там. А на нем очки в золотой оправе, Матерь Божия! Что он в трамвае-то забыл, за таким авто должны были прислать! Ухватил уже что-то, кожа на ощупь, и вдруг вопли за спиной: — Попался, сучий выблядыш! А я так и стою, с портмоне в руке — нет бы уронить, так и стою, будто оглушили, только падать в тесноте некуда. А мне сзади кто-то шершавыми пальцами уши крутит, больно, в спину локтем, так, что искры из глаз. Шапку сбили, из-под нее хлеб выпал. За шиворот выдернули из толпы и хрясь на булыжники, хрясь! А над головой подножка трамвая проплывает, на ней подошвы чьих-то сапог, мостовая трясется, колеса по рельсам лязгают, а мне кто-то носком штиблета под ребра тык! Кто-то за грудки поднял и рраз по лицу кулаком — я обратно откинулся, снова затылком о булыжники. И еще, и еще, и не один бьет, а много, неба из-за краев их одежды не видно, и чья-то рука маленькая, грязная портмоне подхватила с земли, а я лежу, ору: — Не бейте, дяденьки! И голоса сверху гудят — мол, получи, выблядок, шпана проклятая, тварь паскудная, развелось тут вас, как собак нерезаных. А сами голоса всё тише, тише, будто у меня голова чем-то мягким замотана или оглох я совсем. Темнота. Полоска света узенькая слева. Понял, что правым глазом не вижу. Голова во что-то твердое упирается. Пощупал — вроде, бордюр тротуара. Голос хриплый чей-то издалека: — Васька, ты живой? Я отвечаю: — Живой, вроде… Чувствую, кожу на лице саднит, губы распухли, как не свои, еле шевелятся. Зубы шатаются… Языком их потрогал и вытащил один. — Васенька, у тебя юшка изо рту течет, и из носу тоже. Дай, вытру. Сплевываю: — Не трожь, больно! Холодное чо-нить приложи… — Сел, оклемался маленько. Стена вокзала надо мной в небеса уходит, мимо ноги шаркают в сапогах и ботах. Стёпка, кореш мой, рожу конопатую мне в самое лицо тычет, что-то в руку сует незаметно, шепчет: — Бери, Васька, половину, только тсс… А то щас все набегут. Отчаянный ты, Васька. Я бы не смог так. — Ладно тебе… Погоди… Погоди, дурак… — Языком еле ворочаю, а Степка не понимает, кладет в ладошку — нет бы в карман или в шапку. Он вспылил еще: — Черт тя разберет. То надо ему, то не надо. Держи пока дают. Другой бы делиться не стал. Чо, совсем ополоумел? А пальцы-то отбитые меня не слушаются — ну, и выронил. Тут же кто-то из шпаны заметил, подбежал. У них глаз как у стервятников, за двести шагов углядел. Стёпка на деньгах распластался тут же, закрывает собой, но куда там — этот по зубам Степке врезал, у него всё отнял тоже, мне два чирика отстегнул и ушел к своим, падла. Лежу, у самого слезы по щекам катятся. Господи, это я за два чирика чуть концы не отдал! Лучше бы убили сразу, чтоб не жил так, не маялся! Господи, за что? За что этой швали всё досталось? За что, Господи? Рыдаю в голос, захлебываюсь. Чувствую — рука чья-то мне на голову опустилась, гладит. Лицо чье-то иссохшее надо мной, морщинистое. Старушка какая-то, божий одуванчик. Говорит: — Чего ты плачешь, деточка? Обидел кто? И я ей навзрыд уже, о том, как меня жизнь туда-сюда кидала. Устал я. Всё ей выложил: и про мамку, и про то, как из Одессы ехал, и про то, как два года мне жить негде было, и про рабочих, и про чирики эти несчастные. Старушка головой покачала: — Воровство это грех, Васенька. Ну да ничего, Господь тебя простит. Не такой это грех, чтобы в преисподней гореть. Присела рядом на бордюр и слушает, а я распинаюсь, как мне живется худо. Думаю: может, копеек пятьдесят даст? А она: — Господь тебе поможет, Васенька. Через меня поможет. Пойдем со мной, Васенька. — К вам, что ли? — Ко мне, ко мне. Сама на нищенку похожа, а ведет к себе. Думаю: может, хоть сейчас крыша над головой будет? Подняла меня на ноги, тащит по каким-то переулкам, по дворам, через арки. Мне так худо временами становилось, что я с закрытыми глазами за ней плелся. Слышу, калитка чугунная лязгает. Под ногами мягко стало – не асфальт и булыжники, а листья шуршат и мягкая грязь. Помню, поскользнулся я еще. Ударился обо что-то твердое, кожу с ладоней содрал. Глаза открываю — луна в небе светит яркая-яркая, бабка эта надо мной стоит с охотничьим ножом в руке и улыбается: — Недолго терпеть осталось, Васенька. Поболит чуток — и к Боженьке пойдешь, к ангелам. Не бойся, маленький. Он тебе всё простит. Этим не простит, выблядкам, а тебе всё простит, душенька светлая. Лежи, Васенька. А то не туда воткну, зря только маяться будешь. Вокруг сплошь кресты стоят, жутко. И бабка эта с добрым-добрым лицом, будто осчастливить меня хочет. Я думаю: «Ах ты, лахудра старая! С глузду съехала, что ли?» Как вдарил ей ногой, так она и повалилась. Кулачок ее с ножом об камень могильный стукнул — все косточки затрещали. Нож она выронила, скулит что-то про Господа Бога. Я ей еще насовал, чтобы неповадно было. Курва старая… Это она меня-то хотела к Боженьке отправить? Нашлась спасительница… Как толкнул ее посильней, так сама и рухнула. Лежит, не шелохнется, только зенками моргает. Может, и нет твоего Боженьки, дура горбатая? Мне Володька говорил про это. Ах ты, гнида старорежимная! Может, я бы не к Боженьке отправился, а просто сгнил тут. Ничо, скоро сама и Боженьку своего, и чертей в придачу проведаешь… Меня стошнило прямо там, у ограды, и голова закружилась. Сыростью потянуло с реки. Иду прочь, себя перемогаю. Дворы какие-то темные, снег первый пошел еще, глушит шаги. Улиц вокруг не узнаю — снежная крупа везде стеной. Если б я еще читать умел, а так и спросить некого, спят все давно. Долго так брел кругами, пока снова к реке не вышел. Так и есть, на кладбище Новодевичье меня завела. Бывает же такое… Рассказать кому — не поверят. Моим вот рассказать… А потом я вот о чем подумал: два чирика у меня уже есть и трешка, которую я у Томки вытащил. Семь рублей добыть осталось. Даже жалко как-то стало: двадцать три рубля — большие деньги. Я сроду столько не имел. (Совзнаки и тысячи не в счет, конечно.) Слишком жирно Володьке столько отдавать; тем более, и не брал я — с какой стати я их ему понесу? В реке вода покрылась мелкой рябью, и мокрый снег пошел. Метет сплошной стеной, на воду падает, на плечи мне, на папаху, на набережную, на всё вокруг. Воздух промозглый — до того неуютно, что хоть в реку кидайся. Не видеть бы этого никогда, не знать. Зря я бабку обидел — избавить хотела от мук, знала, что делает, ведьма полоумная. Я к самой воде уже спустился. Постоял там, покурил. Спички не отсырели, слава богу. Папиросу от снега прикрывал, руки мокрые, окоченели все. Там наверху фонарь горит, и снег в его лучах пролетает хлопьями, как лепестки с яблонь у меня дома. Закрыл глаза и увидел деревья миндальные, на них розовые цветы, видимо-невидимо, как пена, и небо ярко-синее просвечивает сквозь ветви. Увидел вишневые сады, цветущую черешню. Вспомнил даже запах нагретой влажной земли, шершавые стволы, прозрачную смолу. Ветер играет лепестками, кидает их мне на волосы, на ладони, целыми ворохами гонит по земле. Поймаешь один и смотришь сквозь него на солнце, в глазах розово, теплынь… Весенние шторма, брызги и пена, пена везде — барашки на волнах, цветы и облака. А зимой там и вовсе не было снега. Я местным рассказывал, что он как белая акация, потрясешь — и мелкие лепесточки сыплются, кружатся. У самого голова закружилась, покачнулся — перевернулось всё внутри, как проснулся. Чуть в воду не свалился! Отошел от края, на ступеньках до рассвета просидел. * * * Иду к своим, считай на другой конец города. Худо становится временами, жар начался, покашливаю. Здоровенный ком мокроты выхаркнул из горла, чуть не задохся. Купола тусклые в белесом низком небе, под ногами снежная каша, вода из труб водосточных ручьями льется. Народ бежит куда-то по слякоти, ветер им кругом поддувает — ёжатся, всё норовят скорей за угол забежать или в магазин заскочить на минуту, чтобы согреться. Дома сплошь высокие, стены тебя обступили, будто давят с двух сторон. Бульвары все белые, ветки деревьев снегом облеплены, малышня рядом прыгает: ветку ухватят и трясут себе же за шиворот. Малые еще, дурные совсем. До Трубной площади уже добрался, свернул на Цветной, они там быть обещались. Никого. То есть, народ-то ходит туда-сюда, а моих нету. Я сразу что-то неладное почуял, кинулся на старое место. Они там стоят все, курят. Филиппыч издали еще заорал: — Привет, шкет! Володька смутился отчего-то, дед Матвей его локтем в бок: — Ну говори уже, чурбан ты тупой. И Володька: — Прости, Вася. Подумал на тебя, дурак пьяный. Нашел я их, за подкладкой. Не серчай, а? — У самого губы улыбаются, но как-то странно, будто он их насильно растягивает. Кривятся губы. Харя виноватая — еще бы! Отвечаю: — Ладно тебе, я забыл уже. — Вот и молодцом! — По плечу потрепал, угостил папироской. Главное, что я заметил, — никто работать и не собирается. Пускают колечки в небо и ждут чего-то. Филиппыч потянулся, держась за поясницу, крякнул и говорит: — Рановато нынче снег пошел. Ничо, весной наверстаем. У меня аж сердце захолонуло: — Как это — весной, дядь Филя? А они смеются. Тут я и сам сообразил что к чему. Вижу — грузовик подъехал, они котел в кузов затащили, лопаты покидали туда же. Шофер им крикнул: — Хотите, подвезу? И они все уехали. Руку на прощанье пожали как взрослому, хотя какой я им взрослый-то?
Иду переулками, подворотню ищу или подвал, или сарай дровяной, или подьезд незаколоченный, или двор открытый. Хоть что-то! Снег снова хлопьями повалил. Вдруг смотрю — дамочка в одном платье шелковом, прямо на земле сидит, ноги в туфельках раздвинула. Туфельки с перемычкой, каблук рюмочкой. Модные туфельки, только стоптались уже, каблуки на сторону сбиты. Юбка у нее задралась, а она и не замечает. Чулки прозрачные, на резинках — спустились, в складки собрались, а дальше панталоны кружевные виднеются. Бесстыжая совсем. Платье-то с коротким рукавом, красивое, легкое совсем, а эта дура уселась прямо в лужу. Холода не чувствует, знай плечи свои обирает, чешется, вскрикивает, по бедрам себя хлопает, по ляжкам, а потом руки отдергивает, будто сбрасывает что-то. Окликнула: — Подойди-ка! Сними их с меня! Я к ней нагнулся, а она шепчет: — Пауки, сплошь пауки… По всему телу расползлись… Сними ты их христа ради, сними! — У самой губы в желтой помаде вымазаны, густо-густо, глаза синим подведены, пудра сходит комками, а под носом кожа воспалилась, будто насморк у нее или еще что. Схватила за рукав и тихо так: — Сними их, сыночек. — Чего?! — Сыночек ты мой! Не узнаешь разве? — Обняла мою голову и тянет к своей груди, прямо в вырез платья носом тычет. Я брошку жемчужную там отколол между делом, браслетку расстегнул. Колечки у нее на пальцах туго сидели, я их оставил. Она снова завела шарманку: — Лёвушка, ты что, мать родную не узнаешь? Помоги мамочке, пауков сними, сыночек! Я их боюсь! Всё тело от них горит! Ползают по мне везде! Тискает и тискает, надоела. Я вырвался, так она за ногу ухватилась, волочится следом. Пнул ее куда-то в мягкое: — Отцепись ты… Блядь… |
проголосовавшие
 |
всего выбрано: 19
вы видите 4 ...19 (2 страниц)
в прошлое
комментарии к тексту:
всего выбрано: 19
вы видите 4 ...19 (2 страниц)
в прошлое