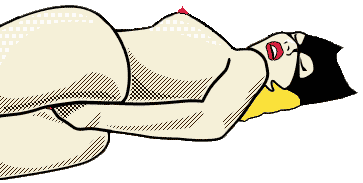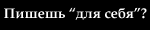Стальная материя – MTS на краю бассейна со спокойствием и неполноценностью. Что это? Это ли те стружки металла, которыми я покрываю кожу, чтобы сдирать лоскутки платьев проходящих мимо девушек? Или мне это лишь так кажется, и я всегда прохожу незамеченный, ухватив немного эфирных масел и летучего алкоголя своими тонкими мембранами щетинящегося насекомого, которое бежит по коридорам, в которых даже шорох шагов не имеет никакого смысла; по коридорам огромного здания, спокойно сокращающего стены своими двумя гигантскими легкими, так, что искривляется потолок и приходится цепко держаться за угол стены и пола; здания, что дышит усталостью огромного города, расползающегося из центра по спальным районам ночными автобусами; города мерцающего, города в вечной дали холмов и равнин, объявших людей, мирно спящих под неслышный шум Дуная.
Но где-то, сквозь ночь, несется стальная материя, проворачивается в неспокойном позвоночнике, не давая уснуть, качается расшатанным столбом на обвисших проводах. И ты понимаешь, что плаваешь кролем в бассейне MTS и видишь: на деле, ты лишь ворочаешься во сне от несварения куском мяса своего тела по безразличному стальному тросу, натянутому от одного края бассейна к другому, подставляя то один бок, то другой, как на вертеле. И, каждый раз оборачиваясь, чтобы глотнуть хоть немного уверенности в себе с голубого потолка, ты видишь рогатый образ Молоха, заслоняющего коричневым плечом полнеба; ты снова смотришь в воду: нет-нет, нельзя поднимать глаз, ибо задохнуться – это самое малое, что ты сможешь сделать, чтобы не потревожить его, чтобы он дал сесть долгожданному самолету (или всё же подняться в воздух?). Исполинский бык опускает свою морду в воду и ты ждешь самого страшного, но он просто умывается от крови, он тоже устал неистовать и исторгать из себя реки крови младенцев,... или это Пикассо, как собака, разглядывающий сифилитичных проституток?
И вот ты сидишь, пьяный в хлам, в прозрачном кресле над всё той же истончившейся веной проспекта... Тошнит от высоты и перебора алкоголя, но ты чувствуешь, как медленно вращается ворот, обволакивающий позвоночник. Неужели это и есть стальная материя – то, что не даст тебе слететь печальным листком в Михайловском парке на газон, по которому нельзя ходить, на её плечо, скользнув легонько печалью, ведь она уже давно не читает твоих писем, она лишь ощупывает то место, где ты когда-то сидел и давал ей первые веревки и деревянные перекладины, слепо ощупывает и находит длинную поперечную отметину на металле скамейки, понимает, что это и была твоя стальная материя, но вот только кто бы её тогда заметил, когда казалось, что впереди еще целая жизнь.
Я фотографирую ночь и самолеты на длинной выдержке и, если ты присмотришься, то увидишь на снимках биение моего сердца, хотя, может, это и в самом деле самолет шатается, как «пьяный корабль». И стоит мне отвернуться, как вся жизнь замирает и только твой голос с непроизносимыми гласными выжимает мою голову. Где ты подобрала этот стальной обруч? В приозерном селе или в моем экстатическом забвении? Или это я обронил там, в Михайловском, а ты подобрала его, чтобы заложить 54 главу «Игры». А у меня... у меня на изломе 54й и 55й глав покоится фотография нашего с тобой первого вина на седьмом этаже. И всё наше с тобой пространство, бесконечно расширяясь, покрыло тонкой карфагенской вуалью всё наши города, комнаты и квартиры, стоило лишь протащить его сквозь игольное ушко, чтобы оно шепнуло нам: J’T. Я и ты в танго тринадцатого числа, влюбленные, осыпающие поцелуями тринадцатое креольское колено, которое ухмыляется: ведь это Я тебя танго всю ночь! И тут же грустнеет, ибо в бесконечных стонах и мечтательных взглядах о лучшей жизни уже нет ничего нового – а сколько их было у всех его предков, восходивших на горы и бравших голыми руками целые народы – все смотрели туда, куда закатывается солнце, все знали, что время танго настанет, пусть даже и под протяжный вой волчиц. А сейчас это время настает в неслышном шуме половиц, продавливаемых ногами, перебирающимися с этажа на этаж, с этажа на этаж, с этажа на... Ну так когда же поставят лампы в конце коридора?
::: Серьги в каштанах. Всё дело в стали. Меня понимали проемы неба меж листьями каштанов, они сияли серьгами фонарей – они лучились пониманием, так же как и ты. Я знаю, как ты сияешь, когда выходишь на ту же волну, что и я. Или это ты сузила целое небо в проем (между каштанов) твоего лица, но ведь ты не носишь стальных сережек! Не носишь. Получается, что если и проем твоего лица, и проем меж листьями каштанов одно и то же, то всё дело в наличии стали по бокам проемов? Это та же диалектика, как если спрашивать отчего темнеет моя керамическая кружка: от дрянного чая или от того, что нам сюда подают некачественную воду – нет, всё дело в качестве моего решения: решу я пить из-под этого крана или именно этот чай ли я заварю, разумеется, лучше всего будет пить молоко, хотя звучит это также нелепо, как если бы на каштанах висели серебряные булки хлеба. Это ли высокоуглеродистая хирургическая сталь или же она с добавками хрома, молибдена и никеля, но вероятнее всего – это самый обычный юный бронзовый сплав, так что сталь – это только вкус на губах. Это лишь воспоминание о твоей руке, небрежно отбрасывающей серьги, перед тем, как мы займемся с тобой любовью. Те самые серьги, которые ты будешь вечно терять со мной и в глубине души благодарить судьбу за эту потерю, за то, что она нежным стальным крючочком прицепит воспоминания обо мне к мочке твоего уха, которую я буду ласкать, забавляясь, что ты так долго горевала об этих сережках, что теперь они не мешают мне обладать тобой без единого грамма металла на твоем теле. Но бывало и так, что серьги становились единственными свидетелями наших с тобою безумств, они не успевали за рваным тактом твоего тела и беспомощно бились, бешенея от крика, срываясь и скатываясь по обрывам ущелья, когда ты, измученная, разорванная в горной чаше, вознесенной в небеса, истекала мной, обращаясь в иссушенную реку, пила солнце меж моих ног, ибо не было сил встретиться глазами, когда солце плавило солёный свинец озера, мы глохли от любви и тишины в стране, где не существует тиканья часов, во вселенной, где два нагих тела стали обладателями единой души, скроенной из жалких лоскутков противоречий.
Много позже, посреди Дуная, на бесконечном лугу, накрытым розовым куполом города, я буду вспоминать все наши тайны и страдания, обволакивая их одиночеством бесконечной сети дорожек, для которых темнота стала естественным состоянием духа, видя их так явно, проходя своей неслышной поступью убийцы, который вдруг решил сжалиться в последний момент, мимо двух любовников, обладающих друг другом, то утонченно, то страстно, то безразлично, то танго. Я провожу по твоим волосам, когда ты лежишь на моей груди, - они в песке, и немного отхожу, чтобы рассмотреть мужчину рядом. Сейчас он – это ты, а потому я просто неслышно беру твои серьги и удаляюсь. После вы будете очень счастливы и очень несчастны, будете любить друг друга так же, как и ненавидеть, будете оставлять, будете вновь возвращаться, каждый раз влюбляясь друг в друга совсем по-особенному, ибо процесс, заложенный когда-то одним словом «нет», стал необратимым, и теперь вам остается только разрушать друг друга, оборачиваясь иными глазами после бесконечным разлук. Так будет, ибо ему необходимо понимание его единственной женщины, а ей – его любовь, но, может, всё как раз таки наоборот, мне неведомо – серьги не говорят об этом; они просто качаются под звуки симфоний Листа и кажется, что они всегда нам кивают, утвердительно отвечая на любой на вопрос.
::: Из записок о том, что случилось между ... и между... Уже который час завороженно вглядываюсь в причудливую паутину метрополитена твоего города; схема-проект, который должен осуществиться спустя целых 12 лет (вновь совпадение?). А из наушников течет, то разливаясь, то туго натянутым конским волосом по шее, звук... Радио из столицы танго, из города, вечно недостижимого, звук из мечты, как будто бы случайно обретшей название. Я вижу, как ты входишь в эту сеть метро много лет спустя – ты так и не вернулась ко мне в Буэнос-Айрес или же это просто я не захотел тебя принять обратно. Что же с нами произошло? Возможно, ты слишком много и слишком внимательно слушала Пульезе, но всегда ждала, что вот-вот зазвучит «Либертанго», нет-нет, это вовсе не было твоей тайной страстью к Пьяцолле, просто ты знала, как много всего произошло под эти вечные первые восемь тактов, которые я неудачно пытался выдувать на губной гармонике на Дворцовой набережной; ты курила сигару не вытирая слез, – мне так и не узнать, где же ты была той ночью, когда я сжимал тебя в объятиях на качающемся плоту под Гарделя, неистово мечущего божественным голосом жалкие страсти к скаковым лошадям и женщинам. И вот ты в задумчивости переносишь вес с ноги на ногу, стоя на эскалаторе, ощущая его полом припортового кафе, куда я тебя привел однажды, чтобы познакомить с настоящими портеньо, и не говори, что ты ждала весь вечер танца со мной – мы слишком давно не виделись и уже было известно, что не увидимся еще дольше – ты была чужая, ты держалась так безупречно, ты стала настоящей тангерой, но я всё же не мог, нет, я не отваживался поднять на тебя взгляд и танду за тандой проводил с давно знакомыми мне партнершами, которые неизменно дарили мне чудо обладания, то самое, которого я никак не мог добиться с тобой. Ты дала уговорить себя одному брюнету, да, он настоящий, поверь, я его тоже хорошо знаю, - он встретит тебя на улице, он подарит тебе весь ночной Буэнос-Айрес, проведет по тайным улочкам и выйдете вы в совсем ином мире, совсем иные. Как-то я увидел женщину, на которую он смотрел так же как и на тебя, но увидел я её уже в другом кафе, случайно, а потом она уехала в Монтевидео (Мар-де-Плата – у каждого своя?). Я же, как обычно, ухожу один, после всех. Когда же у меня появилась привычка курить? Не помню. Что-то произошло с нами между Парижем и Лиссабоном, не помню, что именно, но ты сказала, что следующего расставания не переживешь, я лишь пожал плечами, а ты ушла. Потом была еще пражская попытка и еврейское кладбище. Что-то сломалось? Нет, всё налаживалось: я был сдержан и отстранен, ты была страстна и безумна (сдержанна?). Да, я сказал, что Такие вопросы ты не имеешь права задавать у Его могилы. Я мелочно играл на нервах? Или это было всерьез? В любом случае, мы так и не встретились в Биаррице, ты предпочла спуститься в метро, а я – практиковать свой испанский. И все эти разрозненные куски моих стремлений тебя утомили, ты просто хотела в нашу квартиру на улице Ваци, чтобы я снова закрыл тебе глаза и мы бросились с Цепного моста головой вниз. Я сидел у всё того же маяка 1831, видел свои первые юношеские впечатления от Атлантики, грелся под раскидистым можжевельником, а потом взял да и использовал свой запасной вариант, в котором у меня никогда не хватало смелости тебе признаться. Я очутился по «эту сторону», хотя вряд ли я тогда придавал хоть какое-то этому значение, ибо до этого все мои стремления лучились единым пучком в твоем спектре, а теперь мне пришлось вынимать волновой носитель и остались какие-то потерянные частицы и обрывочные воспоминания: Париж, слякоть, очередной наш с тобой Новый год и ты, вышедшая на балкон, абсолютно спокойная, но что-то решившая для себя. Почему тогда ты мне ничего не сказала?! Да, я и так всё знал, но тебе надо было лишь произнести это вслух и всё разрешилось бы само собой: мой пучок стремлений дополнился бы еще и тобой, - поскольку я тебе не говорил, но во мне много чего переменилось с тех пор, как я твердил тебе, что каждому стремлению необходимо давать равные шансы. Ни волна, ни частица, а что-то между ними, какая-то неразгадываемая физика 9 «А» класса. Ты должна была явиться тем самым стремлением, которого мне всегда не хватало, которое заставляло меня тебя вечно куда-то тянуть, а теперь...что теперь?.. теперь это стремление лишь избежать тебя, когда ты всё-таки приехала в Буэнос. Зачем ты со мной (ястобой бойстобой)? Как и двенадцать лет назад я спрашивал тебя. Ты, ничему не удивляясь, не отвечала, ты просто знала, что ты права, что так было необходимо. «Без этого нельзя». Это ты мне ответила или я сам себе внушил?
Ты пришла под утро, счастливая. Выбежала на балкон, чтобы еще раз вдохнуть рассветного воздуха, - прости, моя комната на теневой стороне, мне видны лишь корки закатов. Ты когда-то мечтала проснуться раньше (я сплю слишком чутко и неспокойно), чтобы разбудить меня, но сейчас ты просто не ложишься со мной, ты вообще не спишь, а меня вечно нет дома: я разыскиваю пещеры Касареса и дворы Кортасара – мне не до тебя. Ты мне не мешай. Шарф выбросил. Шар жалко. Жарко. Жарко стало в тебе. Липкими ладонями покрываю своё лицо и еще чьи-то лица, мне противно (?!#!#!#!).
Твой голос. Кружка у окна. Лампа у окна. Окно у меня перед лицом. Я в окне. Всё случилось. Всё произошло. Ты очень красивая. Мы расстались. Встретились. Зачем-то встретились (утвердительно). И я не нашел ничего лучшего, как промолчать обо всем этом, ибо не хотел слышать твоих ответов и твоих мыслей, чтобы и ты оставалась непонятой-непонятной жадной-жданной женщиной, которая когда-то придет, растает, разольется, примет иную форму города, станет новой метафорой, продолжающую жизнь, полную скромности и зависти, застынет, чтобы снова слиться, чтобы снова последовать, чтобы снова преследовать, накидывая цепочку на бедра чуть ниже пупка, сквозь мои ладони, сквозь мой шестой ряд глаз.
Я сижу, обезвоженный, пытаясь напоить себя по-своему (решительно / определенно / действительно) вкусной будапештской водой из-под крана, и вижу свое брезгливое выражение, когда ты швырнула мне в лицо, что покончишь с собой, если я уйду. Мне было противно видеть твою решимость сделать это. И это вовсе не потому, что ты каждый день этим спекулируешь, но потому, что я знал, что мне следует делать, чтобы избежать этого шантажа серрейторным лезвием: «в случае экстренной ситуации выбейте окошко щитка и нажмите кнопку «тревога» до упора». Да, это было страшно, но я знал, что мне следует делать, а потому мой палец сразу же провалился в кнопку до упора и ничего со мной больше, в сущности, не происходило, пока в очередном порыве ярости, вместо того, чтобы ударить (вот так мы и стали аргентинцами, че), мы проникли друг в друга да так и остались, недвижные, мертвые, счастливые, безразличные... или всё же счастливые оттого, что наконец-то можно отпустить кнопку «тревога» и свернуть в незамеченный ранее коридор. Ведь пока звучит ужасающий вой сирены, я по-прежнему буду знать, что мне делать, и чем дольше, чем неизбежнее будут последствия (доходя до прощания с телом в огне), тем уверенней я буду, тем более здраво я буду поступать, не оставляя маневренного пространства для какого-нибудь неожиданного молчаливого финта, потому что сирена переполошила все этажи в моем теле, которые смогут вернуться к созерцанию самых никчемных вещей на свете, только когда я отпущу кнопку.
Ты снова станешь прекрасной, ты снова станешь желанной, когда я, разрывая на тебе одежду или же не торопясь, буду вновь обладать тобой, погружаться в аромат твоего тела, проникая в твои самые сокровенные тайны, и так до того момента, когда ты вновь станешь мне неинтересной, отброшенной на подушки, вынутой и ослепленной, а я снова примусь ждать, что в тебе накопится мужество мне не отдаваться, прочертить восхитительную линию между нами, которая вновь позволит мне писать, а тебе – быть красивой женщиной с запотевшим бокалом вермута в левой руке. При свете свечей (хоть мы и будем подшучивать над этим романтическим пафософарсом, ибо впоследствии будет всегда так мало времени на прелюдии с нашими переездами и ссорами) ты рисовала мне города и других женщин, из которых я буду вытягивать взгляды и запахи, чтобы я смог идти, беспутно шатаясь вдоль набережных, через мосты и тоннели, эстакады и дома под снос, сквозь насилие, боль, слякоть и выхлопные газы... к тебе.
Мертвый день стоило уже прожить хотя бы ради одного – самого прекрасного момента. Ты была в кондитерской, а я стоял за его звуконепроницаемым окном и смотрел в пол, точнее, мой взгляд медленно стек с твоих волос в пол да там и остался. Ты что-то выбирала, спрашивала, а всё удивлялся про себя: «до чего же история может повторяться в тысячный раз, и каждый раз мое волнение одинаково растет – подойдешь ли ты ко мне в этот раз?» Очнулся я, когда краем глаза увидел тебя, растворяющуюся в толпе, уже где-то бесконечно далеко от меня, но оторвать свой взгляд, припавший слизняком к витринному стеклу, так и не сумел. И это было настолько чарующе ожидаемо, как встретить незнакомку в зеленой куртке на площади Эржебет и сказать ей, что, вероятно, ты ждал именно её всё то время, что ты сидел, пил пиво и любовался красавицей Тисой, что тебе нравится встречать совпадения, а иногда и совпадения встречают тебя, и мы, будто бы негодуя, вымещаем свой веселый гнев словоблудием на первой попавшейся незнакомке в зеленой мешковатой куртке.
Это дурацкое, глупое безумие рано или поздно должно закончиться. И чем раньше это произойдет, эта приторно-притворная игра в сумасшедших, тем лучше. Когда я, притворяясь, что собираюсь вырастить дерево на пятом этаже двухсотлетнего здания за один день, запираюсь в своей мастерской, и когда она, веря в это, начинает подглядывать: что же это я там делаю. А я ничего не делаю, я просто сижу на балконе и с нежностью смотрю на росток, зажатый каменными плитами, зная, что ему не пережить этой зимы, что я живу уже следующей весной все эти сутки. А она всё скребется и скребется, что невольно возвращает меня к обману, который происходит сейчас, заставляя придумывать самые невероятные причины тому, что исчез росток, как и всё дерево, ибо оно выросло. В то время, как настоящее чудо происходило в момент, когда я перенесся в следующую весну и успел посадить тысячу таких ростков, миллионы, чтобы озеленить всё вокруг, чтобы юные волшебники могли верить в чудеса уже после того, как меня не станет. Нельзя выставлять меня наедине с моим же обманом самого себя. Прошу тебя, не делай этого.
::: Линда Я иду по тропам, исхоженным тысячами туристов до меня, я иду ночью, когда тропы отдыхают и топот тысяч ног разглаживается прощальными вибрациями под шелест путеводителей и щелканье затворов всё ниже и ниже, туда, где безопасно, ужин в 19:30, номер в отеле, приветливые венгерские портье. Когда мировая «старая плесень» сползает с Будайских холмов, они начинают рассказывать удивительные истории, которые повторяются уже добрую тысячу лет, а жизнь города в это время перемещается вовсе не на знаменитые улицы и проспекты, а в куда более прозаичные подземные переходы, станции метро и трамвайные узлы, в которых переплетаются сложные формы говоров, взглядов и поз. Иной трамвай сам несет тебя, бесшумно скользя по мосту Маргит, раскрывая объятья реки, и, стоит тебе лишь немного повернуть голову, чтобы вновь увидеть себя закованным, беспомощно свешивающимся над пропастью под крепостной стеной у старой полуразвалившейся часовни, и тот, кто сидит в удобном кресле трамвая, безмерно удивится отражению собственного лица в темном окне, потому что так захотел город, чтобы ты слетел с часовни и за много-много километров оказался на изломе моста. Но когда город не хочет тебя – бессмысленно ждать трамвай.
Сегодня ты была в белом, и тебя, кажется, звали Линда. Мы ехали в автобусе и мне было дико страшно, что старуха, уцепившаяся за поручень, за который держался и я, прольет на меня черную жидкость, плескавшуюся в стакане, судорожно сжимаемом её костлявой конечностью. Ты будешь долго вопросительно смотреть на меня, поняв, чего я так боюсь и почему я так улыбаюсь – ведь если бы она пролила, то это было идеальным завершением сегодняшнего вечера, который начался с неудачной лекции иранского профессора, подтверждаясь твоей запиской, в которой ты хотела каких-то объяснений (откуда у меня в тетради появляются другие женщины и как вообще появляется то, что появляется), и моим тебе ответом, что какие бы объяснения я тебе ни привел, все они будут в итоге жалкими и нелепыми, ибо нет ничего более прозаичного, чем парадокс, всё настолько обыденно, на самом-то деле, что, пытаясь всё это разложить по полочкам получается, ничего так и не произошло (как и с твоим умирающим листком, переживающим, вероятно, высший миг своего бытия), в то время, как в этом обыкновенном хаосе, мне удалось нащупать что-то такое, что может выражаться только в ничего не значащих строках, поскольку финал наступит неизбежно, но почувствовать его, не пропустить, можно лишь только закрыв глаза и положив ладонь на струны паутины, которая отзывается на еле слышимые импульсы, посылаемые неведомо кем, неведомо откуда – да и знает ли этот кто-то зачем (нет); день продолжил свое путешествие через дворцы и башни, ограды и каштаны, которые бомбардировали землю своими спелыми снарядами с неописуемым наслаждением, позволив солнцу неосторожно проколоться шпилем изящного фонаря и тихонько сползти за час до официального заката.
А после ты простодушно рассмеялась (я тогда еще подумал: в самом ли деле тебя зовут Линда?) и сказала, что единственной живой вибрирующей частью старухи были её черные отполированные ногти, которые, бесконечно умножаясь в моих расширенных зрачках, стали зеркалом жидкости. - Вот видишь, всё объяснимо! – весело сказала ты, когда закрывались двери. Я растерянно смотрел вслед твоему автобусу и только после этого почувствовал жжение на правом бедре – черная жидкость упорно разъедала кожу.
С площади Москвы я вспрыгнул на первый попавшийся автобус, который резво потащил меня мимо уютных вилл Будайских холмов и так до района Нормафа, который смутно отпечатался у меня в голове, когда я в последний раз смотрел на подробную карту города. Выйдя, я не торопясь пошел вверх по гряде, которая начиналась небольшой смотровой площадкой, одной из тех, что возникают стихийно после того, как один чудак задержится на том месте чуть дольше, чем положено. Тогда я и увидел тебя: ты подошла к какой-то семейке, мирно жующей свои сэндвичи на склоне, и просишь погладить их собаку, тебе разрешают – ты счастлива оттого, что собака точно такая же, как и хозяева, что её можно мурыжить и забавляться, притворяясь, что в 10 утра и в 7 вечера ты будешь кормить её каждый день. Я подхожу и целую тебя, так мы и познакомились в первый раз, по крайней мере, так мне рассказывали впоследствии мои друзья Ференц и Йожеф. После, когда я уже шел вверх по холму Янош и улыбался, ты резко отвернулась, будто прошлое укусило тебя в губы, а я ревновал тебя ко всем этим мирным животным, потому что и тебе хотелось того же: чтобы твой сынишка показывал мне (высокому незнакомому дяде) язык, чтобы можно было сидеть на скамеечке и причитать о том, что начальное образование ни к черту, что муж, что погода,.. но всегда выходило так, что откуда-то появлялся незнакомец и целовал тебя в губы, не спрашивая твоего имени, не предлагая, не обещая, просто вел тебя вверх по холму. И всё же, в этот раз ты не пошла за мной. Ах, Линда, и зачем тебе этот Питер, воробушек мой, залезший в куриную скорлупку? Я поднимался всё выше, к башне Эржебет, а ты осталась там, где кричат дети и гудят шмелями родители, одна, потерянная, с загнанной усталостью в глазах, которую мог бы разогнать и придумать ей оправдание подбежавший к тебе малыш (я знаю, что тебе даровано говорить с детьми и кошками). Ты стоишь и ждешь собаку или малыша, а я – всё ближе к башне.
Ты ехала одна в автобусе, отрешенная и опустошенная, да, у тебя нет минивэна, чтобы погрузить туда надувные мячи и корзинки с провизией, которые принесет муж, дети наигрались, как славно. Я смотрел на тебя, сидя в конце салона. На пересадочной ты вышла (я за тобой) и тут же бесшумно подошел шестивагонный трамвай с панорамными стеклами, я вновь последовал за тобой. Я бесконечно повторял твой профиль на стекле, рисуя его пальцами и растушевывая тыльной стороной ладони, но ты была неприступна, ты смотрела на север. На мосту Маргит я взял тебя за руки – я просто подтвердил то, на что (на юг) ты и так смотрела. Нет, я сидел в конце вагона и запихнул себе шапку в рот, чтобы не закричать, чтобы не упасть в обморок, чтобы не броситься к тебе и ударить тебя по лицу, обращенному на север! Я чувствовал, как мои ноги обращаются в желе, дрожащие пальцы никак не могут нащупать билетик под негодующим взором кондукторши. Я встал и вышел на площади с подземными переходами, оставив тебе твой профиль на стекле.
Кого ты ждала у эскалатора? Кем ты притворялась сегодня – англичанкой? – когда я вновь увидел тебя в вагоне метро. Ты побледнела и выкрасила волосы в рыжий цвет. И всё же ты набирала сообщение по-русски латиницей – мне удалось это увидеть в твоих черных глазах. Кто он? Мне никогда не нравились твои слова: «никогда», «ухожу», «ты» - сквозь них я отчетливо видел его ухмыляющееся лицо и знал, что на следующей пересадке ты рванешься ко входу сквозь поток людей, идущих по направлению к выходу, и, расталкивая их, ворвешься в уходящий поезд, чтобы торопить его замершим на губах криком, чтобы прилипнуть ладонями к дверям, раздвигая их, как губы – как его губы, чтобы проникнуть в его горло, чтобы добраться до его сердца той же ночью, потому что ты вновь вернешься, войдешь в его вестибюль и сядешь на лавочку да там и останешься – когда тебя волновало, что эта лавочка для всех?
Линда, почему ты никогда меня не узнаешь сквозь объявления станций из репродуктора, стук колес и шум ветра, шелест страниц порножурналов и струящейся урины? И эти наши с тобой встречи, неожиданные, но такие изматывающие (сейчас я живу в постоянном напряжении, потому что знаю, что встречу тебя вновь, но ты вновь не ответишь). Почему ты остаешься безучастной, когда мимо проходят безумно красивые венгерки в облегающих трикотажных платьях, юбках и джинсах с низкой посадкой, ведь раньше нам с тобой так нравилось рассматривать красивые пары, награждая понравившихся девушек и парней вожделеющими взглядами. Что произошло? - мы всё же потерялись в городе, который лелеет свой бесплатный общественный транспорт или ты собралась улетать в Прагу; нет, ты улетела в Узбекистан, как я узнаю много позже. Неужели ты хотела найти там пещеру Малика, которую не нашла со мной? Что за тайная страсть забирала тебя от меня? Ты хотела посмотреть на Афлатуни, который вырыл из земли узбекский Город Кортасара, венскую фрау Марту (графиню? в окна которой мы потом будем глядеть, но так и не решимся зайти), Лаги-Луизу и Элен-Хуана. Ну что – ну и что? – ты убедилась, что для этого необходимо быть в Йокогаме, чтобы Вена стрелой пронзила Париж и Ташкент! Ты вновь обманулась, уже в который раз представив, что твое перемещение сможет догнать вечно ускользающую трансценденцию книг, выпущенных ограниченным тиражом. Вряд ли я прав, да и вообще, имею какое-либо представление о правоте, тем более – своей, но мне всегда казалось, что узнай ты меня в вагоне метро или трамвая, на перроне или эскалаторе, перегнувшись через бортик, протягивая мне руку, чтобы и я понял, что тебе уже известно, то тогда мы бы встретились все вместе на рю де ля Арп 51, заказали бы пива и студенческой картошки фри и разговаривали бы до утра, пообещав, что всё за собой уберем. Может, всё произошло бы именно так, если бы ты хоть раз осталась со мной в вагоне наедине с собой.
::: Агата Избежать парадоксальности – это всё равно, что мастурбировать после Кортасара, стараясь унять бешеное биение в груди, зная, что придет очередное мнимое минутное спасение, как и любая другая индульгенция, освобождающая от уплаты самого главного налога – твоей души. И ты бежишь на красную тряпку тореро, совсем не замечая его серебряного лезвия. Разръярен. Нарвался. Пронзен. Воочию всё это вижу, кося кровавым глазом. Да, она третья в первом ряду. Моё убийство – для неё?..
- Тебе следовало мне изменить до того... а теперь уже ничего не исправить – я погибаю. Мы должны были познать всю грязь, чтобы освободиться, ибо небеса были уже у наших ног, чтобы обосновать невозможность нашей с тобой встречи, ну хоть как-нибудь обосновать! Я помню твои духи «Ипноз», зиму, глинтвейн – всё помню прекрасно, но только почему ты отдаляешься, как-то путаешь меня набором слов, когда я пытаюсь тебе доказать, что глагол «joder» - это не только «трахаться», но теперь уже всё равно, потому что картинка сложилась так, как она сложилась: из бесконечных кликов, шелеста страниц, воспаленных глаз, цвета волос, докапывания до истины, толку от которой всё равно никакого, смешения языков. Русские слова обращаются в английские, блюющих на тротуар французскими, для которых единственная возможность выразиться – испанские идиомы. Мешанина, порождающая глобальный смысл: Мага жива! Какие глупости: она исчезла в течении Сены или в Монтевидео (Лукке), она не может быть 84летней старушкой в Лондоне, только не это. Умница Эдит Арон и глупышка Мага, когда опять нежная грудь, минутное забвение – тайна пропала, начались опять картинки в рамках и определения с транскрипциями. И через всё это выйти к тутовому дереву (вновь вкус на языке), которое, в свою очередь, приведет к воспоминаниям о беспечном детстве, когда мне снились сны (после это непременно произойдет, хотя я еще не знал, что такое «carte d’embarcation») о том, как я приезжаю в Париж во второй раз и меня встречает мой греческий дядюшка, с радушием вручая мне кредитную карточку с ограничением суточных расходов и перепоручая меня своему помощнику, как я жду тебя на Мосту Искусств, с отвращением глядя на баржи, которые тащатся разжиревшими тараканами, наши прогулки по кладбищу Монпарнас (section 2e), как ты крепко держишь меня за руку, будто боясь, что я закричу или убегу, потому что вдруг пойму, что ничего бы не было, если бы Эдит не отказала Оливейре, просто сказала бы «нет», впоследствии обретя имя Сивиллы во французском переводе, также как и я отказался идти дальше без тебя, потому что тогда ты была нужна мне больше всего на свете, мне были необходимы твои глаза и пальцы именно в тот вечер; ни до того, ни после я так сильно в них не нуждался, как в тот миг...ты послушалась. И мы будем долго раздумывать, что же закурить: «Голуаз» или «Житан» (fabriqué en Ukraine) – немногое, что уцелело от них в Париже.
- Почему бы тебе не вздремнуть, вот увидишь, всё само пройдет, - предлагает мне Ференц (Йожеф?). Но я-то знаю, что это очередная уловка моего друга, чтобы ночью я столкнулся с самим собой и, испугавшись, отказался бы рассказывать об этом днем, как это случилось сегодня. Но я не хочу сталкиваться с самим собой, чтобы снова, как и той самой ночью, в постели с Агатой, дотронуться до самого себя её кожей и ощутить, что это всего лишь я, ощущающий самого себя, обращаюсь в Ничто.
Где-то в августе... Я чувствую, что я лежу один. Я чувствую, как поджимаются мои яйца, как мошонка упруго сокращается, прижимаясь к телу. Я также чувствую, что в определенных точках моего тела существует давление и я ощущаю тепло, разливающееся на некоторых участках моего тела. Мне не холодно. Просто это давление не дает моей левой ноге упасть на постель, а моя левая рука сильно вжимается в подушку, поскольку плечо чувствует давление и тепло сверху; поперек моего живота протянута еще одна линия тепла и давления. Я совсем один. Яйца поджимаются к телу.
Но сейчас всё изменилось (что-), сейчас что-то пропало в ощущениях (-то-), мой спутник ушел (-не-), вот я и не могу почувствовать себя со стороны (-складывается). Я уже не одинок, потому что ушел мой спутник, потому что я больше не ищу его общества – я ищу одиночества. Как только он ушел...нет, ничего не выходит (что-то-не-складывается), разговоры ни о чем, ухмылка Ницше в усы, и вот сейчас он ка-ак...нет, он уже слишком стар для... И от всего этого хочется просто упасть без сил. Вовсе не потому что меня оставили силы, напротив, я готов шагать сколь угодно долго, но это лишь потому, что сила замкнулась сама на себе. Она вновь приходит ко мне в сон, чтобы согревать, чтобы ждать, чтобы охранять. Потом, уже в аэропорту я сказал тебе, что ты – Агата, но ведь ты откуда-то знала это сама – мне не понять. Возможно, мне всё-таки не хочется, чтобы ты меня ждала, чтобы ты льнула к стеклу, пытаясь увидеть меня хотя бы в бликах, если уж нет прямых улик. Ты ждешь, а это значит, что я всегда буду возвращаться к тебе, это значит, что пока в тебе хватит тебя, твоих имен и твоей фантазии, то я буду возвращаться, потому что единственный весомый повод вернуться – это ожидание. Да, мне хотелось, чтобы ты была со мной на холме Геллерт (метить панорамы окурками «Голуаза», пить пиво, дрожать от ветра, шелестеть кленовыми листьями), хотел чувствовать влагу и мягкое тепло твоих губ, ласкающих меня в темноте, в отсветах моего города. Вряд ли я теперь могу хоть что-то исправить в том, что я всё чувствую через тебя, одиночество – тоже (ла-ла-ла-ла, пролелила лы, вималая фалту симилоувом УВЫ мачта! – поиграй со мной! зачем меня всё время резать ржавой аббревиатурой – вилая-вилая! – пеликаны жгут листья, оставь блеск и проемы – вышыболе молтом НО это уже в прошлом – выйна селемию, а после – закрой... между: вылет в 19:30, место 14А, и между: вылет в Безрадостон, место Октябрь пять утра).
Меня всегда удивляло, как тебе удается чувствовать других людей, особенно женщин, прошедших сквозь меня, удивляло потому, что ты обычно рассказывала об этом так неумело коверкая слова, что я пытался скрыть страх перед раскрывающимся откровением за своим обычным спокойствием и терпеливостью, пока ты подбирала слова для столь непростых предложений, на которые я сам никогда бы и не отважился, но сейчас тебе вряд ли есть что мне рассказать, потому что в городе с картавящим Хуаном ты не смогла пройти сквозь меня, ты стала путаться и вязнуть, потому что внутри меня ты встретила свой же собственный образ, который остается вечно незавершенным, ибо я затыкаю дыры в нем то паклей, то плевками, то созвездиями высшей пробы, ты не смогла вывести схему лабиринта другой женщины, чтобы, как обычно, найдя кратчайший путь (а для этого тебе требовалось лишь прикрыть глаза; выискивая других женщин, чтобы найти повод для ревности, ты лишь отдаляешь себя от меня и от самой себя, которая во мне, вместо того, чтобы принять саму себя такой, каковой ты явилась в миг, когда ты решила вновь пройти сквозь меня), выйти наружу и горестно присесть на скамейку рядом со мной и чем-то во мне восхищаться. Сейчас ты всё глубже утопаешь в себе самой – кумуляция энергии достигла своего предела, ты уже спустилась в пещеру и получила мою записку, нет, это была твоя записка самой же себе, когда мы, терзая плоть, любили друг друга на листах бумаги, на которых я только собирался писать тебе письмо, как ты уже вошла без спроса, без стука, просто сбросила свои элегантные брюки, которые едва успели догнать блузку, ты, словно опомнившись на миг, схватила листок, уже пропитанный мною под тобой, ты вспомнила о чем-то неотложно важном, что приходит к тебе лишь тогда, когда мы сливаемся в нашем озере зеленовато-голубоватыми реками, на берегу которого стоишь ты и вздрагиваешь от холода и отчужденности, потому что знаешь, что что-то не так в этой пещере и её берегах, что я сейчас сижу и зверею от того, что вижу свой удвоенный оскал и красные глаза, расползающиеся вдоль висков, обтянутый кожей лоб и взлохмаченную гриву – я страшусь сам себя и в ужасе оборачиваюсь, чтобы вновь никого не найти за своей спиной, хотя прекрасно вижу в отражении, что за спиной стоишь ты, готовая проткнуть меня насквозь, стоит мне только еще раз улыбнуться своему раздвоенному портрету, дрожь пробегает по моему телу и я щетинюсь шипами, на них выступает яд.
Ты запускаешь руку в меня и она проходит сквозь мою скорлупу, будто это мягкий ультрамариновый камень (плод каштана?), в котором ты слышишь голос женщины, в котором тебе уютно, темно и спокойно, ведь ты и есть та женщина, вернувшая тебя к праматери всех существ, ты великая порождающая сила, ты чревата всеми бедствиями и совпадениями, которые беспомощные мужчины впоследствии назовут счастьем. Ведь я ничего не мог сделать с тем, куда летел наш с тобой летний Питер – в бездну твоих откровений, эта стихия, с которой еще ни одному не удалось справиться, да, её можно остановить стеной, можно зажать рот, чтобы каждый день бояться, что она треснет и кровожадно улыбнется, выплюнув откушенные пальцы. А впрочем, летел он туда же, где пропали: Алма-Ата, Киев, Дели, Бишкек, Москва, Гонконг, Сингапур, Буэнос-Айрес, Париж – это лишь названия миллионов случайностей и закономерностей, исчерпывающих человеческую фантазию, которая неизбежно утыкается, зачастую кусая себя за хвост, в замкнутое кольцо, в нутро которого ни проникнуть, ни разомкнуть его, потому так приятны мантры, интеллектуальное чтение, изощренный секс и сложная музыка, ибо это бесконечное утешение человека, который наконец-то понял, что он остался один на один с самим собой.
2008 |
проголосовавшие
комментарии к тексту: