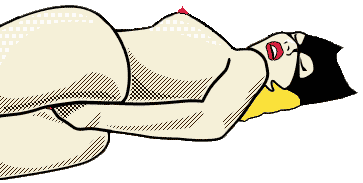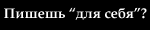Посреди надежды
И я уже не проснулся. Застыл на больничной кровати со страшными, пугающими молоденьких медсестёр и непривыкших соседей по палате, необыкновенно широко распахнутыми глазами, в которых запечатлелись тревога и страх, - не за себя даже, совершенно не за себя - совсем, наверное, неоправданные тревога и страх за будущее моих родителей, моей жены и дочки, и может быть даже за всех людей, лежащих сейчас где-нибудь так же как и я, за всех беспомощных людей, да и не только за них - за всех-всех людей вообще; что же их теперь ждёт? - я никогда уже наверное не увижу, что будет со всеми ними, и никакую роль в моей жизни они уже не сыграют. Я застыл с приоткрытым ртом с тонкими, бледными потрескавшимися губами, из-за которых виднелись пожёлтевшие зубы. Я лежал на пропахшей потом, мочой и калом койке, и хотя простыни подо мной иногда меняли, запах этот завис в больничной палате, наверное, на очень долгое время. Даже когда я наконец умру и меня вытащат из-под одеяла, с головой накроют простынёй и унесут в морг - даже тогда этот запах ещё останется, и в запахе этом я чувствую до сих пор - хотя из моих ноздрей торчит какой-то провод - не только продукты человеческой деятельности, за которые меня (я всё слышу, хотя они об этом наверняка не знают) каждый день ругают мои соседи по палате; я слышу в этом запахе все ароматы моей жизни... Например один... Вот этот, - да, этот! Точно так пах клевер у дедушки в деревне. И на обшарпанном высоком потолке, с середины которого свисает одинокая болтающаяся на проводе лампочка, в тени, отбрасываемой оконной рамой, я вижу себя. Да, вот я - мне семь лет. Лето, ярко светит солнце, заливая лучами крыши домов, заглядывая через окна в комнату. Я, босиком и с непокрытой головой, выбегаю из приземистого двухэтажного домика и несусь со всех ног к опушке: "Эх-хей!" - я бегу вперёд по деревенской дорожке, подняв руки к небу, и солнце играет с моими веснушками. Высокие ёлки и сосны - они кажутся какими-то чересчур ярко-зелёными в свете солнечных бликов. Совсем рядом со мной - поле, и я бегу к нему, бегу и радостно кричу: "Де-едушка!" Поле, полное клевера, и вот он - этот запах... Всего этого уже нет, всё это осталось позади, очень далеко; нет того, к чему я стремился всю жизнь - как-то в одночасье, в один миг я потерял всё, что у меня было, возможность познать мир ускользнула из моих рук, а взамен я получил новую вселенную, не требующую, к сожалению, никакого познания. Сейчас ночь, и за грязным облапанным стеклом, вставленным в серые подгнившие рамы в оконном проёме, мерцают звёзды, и ветки деревьев мягко колышатся от дуновения свежего ночного ветерка. А в приоткрытую форточку тщетно пытается втиснуться надкусанная и пятнистая, словно несвежее яблоко, настырная луна. И я всё это мог бы увидеть, поверни я голову набок, но всё, что я могу делать - это с открытым ртом, из которого, должно быть, пахнет не приятнее, чем от бака с помоями под нашим окном, выходящим на задний двор больницы, с немой мольбой в глазах смотреть на затянутый паутиной высокий больничный потолок. В палате тишина. Лишь на побеленной стене в свете луны играют тени деревьев и качающихся от ветерка из форточки цветов, стоящих на подоконнике в обломанном глиняном горшке. Все спят. Лишь я не сплю, не сплю никогда - и в то же время сплю постоянно и совершенно беспробудно. Я сплю всегда, сплю ранним утром, сплю и слышу чириканье соловья на ветке под окном; сплю днём, когда все ходят, суетятся. В палате в это время обычно играют в шахматы или в домино, иногда громко ударяя ладонью по столу с криком "Рыба!" так сильно, что стол трясётся и подпрыгивает вместе со старым поколоченным будильником. Но никакая "рыба" меня не разбудит. Я сплю по вечерам, когда в палату к больным приходят родственники, приносят с собой яблоки и апельсины, передавая иногда тайком пачку сигарет. Рассказывают, что в семье всё нормально, дядя Вася всё так же пьёт: "Ха! Вчера он, кстати, ты представляешь?! Пришёл в пять утра пьяный вдрызг, на ногах не стоит, бритый наголо, под ноль абсолютно! В пиджаке на левую сторону, одетом на голое тело, и босиком! И знаешь что он сказал? Что его забирали инопланетяне к себе на опыты!.." Я сплю, когда меня кормят с ложечки, когда вливают в меня эту тошнотворную кашу или иногда суп. Это такая ужасная еда, я просто не представляю из чего, как, и где, и главное кто её готовит. Почти никто, наверное, в нашей палате не ест больничную еду. Она никому не нравится, не нравится она и мне, но я-то же ничего не могу сказать! Меня кормят и кормят ей, ложку за ложкой, ещё и ещё. Иногда, когда моё лицо казалось медсёстрам чересчур исхудавшим, или когда надо было избавиться от излишков пищи, мне давали добавки. И я ел, единственный в палате, и на меня все смотрели и хихикали. Хотя иногда, когда было совсем невмоготу, да ещё если родственников нет, или если они просто забыли о своём "старом и больном мешке с дерьмом", как они, наверняка, любовно называют своего деда за глаза, какой-нибудь дряхленький старичок нет-нет, да и отхлебнёт пару ложек этой похлёбки из помоев, поморщится, и затем обязательно доест всё до конца. Многие вываливали остатки своей пищи в окно, из-за чего, должно быть, там и образовалась поначалу самая настоящая свалка. Затем туда стали сваливать весь больничный мусор, поставили один мусорный бак, и где-то раз в три недели за ним приезжала огромная мусорная машина, которая звонко хватала его своими скрипящими железными клешнями и вытряхивала в себя весь мусор. Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что сейчас-то как раз кормят всё же лучше, чем два года назад, когда я попал сюда. Тогда меня, совсем не привыкшего ни к больничным правилам, ни к больничным особенностям, ни к больничной еде, решили накормить с ложечки холодной жидкой пшённой кашей, разбавленной, должно быть, какой-нибудь непробежавшей ржавой водой из-под крана в туалете. И после того, как мне в рот засунули ложку с кашей, стоило мне только лишь проглотить это, как меня тут же вырвало, вырвало прямо на себя, на кровать, и попало даже на кормящую меня медсестру. Я полулежал на кровати, прислонившись спиной к подушке. Меня вырвало прямо на одеяло, на мою грудь, на очкастое лицо медсестры так, что она от неожиданности и возмущения выронила ложку и закричала на меня, вытерев лицо рукавом халата: - Ты что делаешь, ублюдок?! Ты сдурел что-ли совсем, да? Ты что, козёл, ты зачем блюёшь? Ты не хочешь есть - ты не ешь, ты зачем блюёшь? - и ударила меня по щеке. А я даже не шелохнулся. Я всё смотрел и смотрел с открытым ртом в угол хохочущей над нами палаты, туда, где потолок соединяется с двумя стенами и думал о том, как хорошо было бы когда-нибудь снова побывать на даче, сходить в лес за грибами, порыбачить, или посидеть на берегу реки у костра на закате. У меня с губ ещё капало содержимое моего желудка, а во рту и в носу я ощущал противный рвотный запах. Медсестра постояла, сжав кулаки, затем, когда немного успокоилась и смягчилась, обтёрла мой рот грязным, кое-где подсохшим носовым платком, лежащим на тумбочке у соседней кровати, и даже влила мне в рот стакан воды. С тех пор у меня и появилась неприязнь и недоверие к больничной еде: каждый раз, когда мне подносили ко рту ложку, у меня замирало сердце и я весь внутренне готовился к очередному непроизвольному спазму желудка. Мне стоило немалых трудов превозмочь это чувство, лишь спустя некоторое время я научился спокойно принимать еду и даже, если будет уместно так сказать, привык к ней. Я не знаю, может быть больничную пищу и любили в других палатах (скорее всего так и было - кто-то ведь её всё же ел), но, как я уже говорил, в нашей палате её ели редко, в самых лишь исключительных ситуациях. Наверное именно после того случая с медсестрой все больные нашей палаты стали очень настороженно относиться к тому, что подают на завтрак, обед или ужин. Это история затем стала местной легендой, и каждому новому больному, появившемуся в этой палате, непременно рассказывали: "Видишь вон то бревно на кровати? Так вот - ты не поверишь - эта спящая красавица один раз... - тут следовала интригующая пауза - Облевала медсестру!" - и все надрывно хохотали, будто слышали это в первый раз, кто был поинтеллигентнее, тот просто скромно хихикал или, просто из приличия, ухмылялся. "Облевал! Даром что лежит пластом и пялится с открытым ртом в пололок. Она ему - ложку в рот, а он - блюэ-э-э! Прямо на медсестру, представляешь? Да-да, на ту самую, в очках, с такими сиськами. Да, и сзади она ничего, это точно..." - и далее разговор сворачивал уже в сторону женщин. А я после этого ощущал на себе некоторое время взгляд новенького, тяжёлый жалеющий взгляд, взгляд человека, тщетно пытающегося проявить какое-то участие и сострадание. Взгляд человека сочувствующего, но думающего, глядя на почти уже бесчувственное тело: "Как хорошо, что всё это случилось не со мной..." Затем он отвернётся в сторону, словно пытаясь избавиться от меня, чувствуя себя в чём-то виноватым и будто бы убеждая себя, что он на самом деле ни в чём не виноват, и живо вклинится в разговор о женщинах, не подозревая даже, что всего через месяц он уже сам будет рассказывать всем Историю об Облёванной Медсестре с таким выражением и видом, как будто сам присутствовал при всём этом.
Я попал сюда около двух лет назад. Я до сих пор помню тот свежий летний субботний день. Я встал чуть рано для выходного дня, где-то около восьми часов утра. Жена ещё спала, повернувшись к стене и слегка посапывая. Я вытащил тапочки из-под кровати и, просунув в них ноги, пошёл в туалет. Мы с женой и дочкой жили в маленькой однокомнатной квартире в доме-малосемейке с одним подъездом. Пятилетняя дочка спала на кровати у дальней стены за ширмой, мы же с женой умещались на раскладном диване перед телевизором и старым сервантом. Сходив в туалет и почистив зубы, я, зевая, вышел на улицу покурить и прогулять собаку. Когда я вернулся, жена уже встала и готовила завтрак; дочка, проснувшись, просто нежилась в кровати. - Доброе утро... Да, пока не разделся: сходи за хлебом, пожалуйста. И пакет молока возьми, - сказала мне жена с кухни, как только я вошёл и уже успел снять один ботинок. - Ладно. Всё равно сигарет надо взять, - пожал плечами я и, надев ботинок вышел во двор.
На улице было чудесно: ярко светило солнце, и от этого всё казалось таким тёплым и радостным, дул прохладный ветерок. Рядом стоящие дома отбрасывали прямоугольные тени на сухой пыльный асфальт, высокие зелёные деревья шелестели листьями, образовывая на том же асфальте причудливые силуэты. Окна домов отражали свет и били в глаза, стоило только посмотреть на небо. И всё было таким светлым, и всё было так прекрасно, что у меня перехватило дыхание, в голове зазвучала слышанная когда-то давно неизвестная музыка. Булочная находилась за углом соседнего дома. Я прошёл по узкой тропинке и вышел из двора на переулок, свернув затем за угол и оказавшись на улице, рядом с дорогой. Дома теперь отбрасывали тень в другую сторону, поэтому на улице было ещё светлее, чем во дворе. Проезжающие по дороге машины поднимали клубящуюся пыль кверху. Я шёл, перешагивая через трещины на асфальте и наступая в чёрные пятна высохших позавчерашних луж. Вдруг я, не замедляя шаг, поднял голову и посмотрел вверх, на небо. Я чуть прищурился, чтобы солнце меня не ослепило, и попытался на чистом, ярко-голубом небе разглядеть хоть одну звезду. Почему-то внезапно мне захотелось, чтобы весь этот солнечный свет, заливший улицу, проезжую часть и стены панельных домов, отбрасывающий на полу квартир очертания оконной рамы, вдруг исчез, и чтобы улица погрузилась во мрак, и чтобы вместо бьющего по глазам солнечного пятна появилась мягкая, будто источающая люминесцентный свет, луна. У меня на глаза навернулись слёзы. Я безумно любил и солнце, и день, - и особенно летний день - и сегодня я даже любил всё это намного сильнее чем обычно, но я чувствовал, будто что-то подсознательное подсказывало мне, что этот летний денёк я вижу, может быть, в последний раз. Я любил просыпаться утром, - а за окном уже кипит жизнь - подходить к окну и смотреть на светлую радостную проснувшуюся улицу. Но вдруг внезапно я почувствовал, что всё это не для меня, что всю жизнь я обманывал себя, тешил себя глупой и неоправданной надеждой. Внезапно я понял, что мне открылась истина, что мой удел - это чёрная непроглядная мгла, это быстрый, безумный, безостановочный бред, это глубокая сырая пещера, из которой нет выхода, это ночь, пустая и тёмная, как дыра в никуда. Острая и страшная мысль молнией пронзила мой разум: как я раньше не мог этого понять? Да, я всю жизнь стремился к свету, да, я мечтал о нём, но... Я уже не мог ни остановиться, ни оторвать взгляд от неба, ни остановить поток своих размышлений. Я был как-будто под гипнозом, и вдруг мне почему-то захотелось смеяться. Ужасно захотелось смеяться, смеяться по-настоящему громко и истерически, смеяться от безысходности. И я захохотал. Я хохотал так, что прохожие оборачивались и останавливались, а я всё смеялся, и смеялся, и смеялся. Так я не заметил, как запнулся о бордюр и упал - и перед моими глазами как будто выключили телевизор - всё окружающее уменьшилось до размера одной точки, и улица погрузилась во мрак Очнулся я в больнице, когда меня на скрипящих носилках уже везли в операционную. Я спросил что со мной, и мне ответили, что у меня самый обыкновенный перелом руки. Правда есть небольшие осложнения, но сейчас мне быстро сделают самую простенькую операцию, которая даже проще и безопаснее удаления аппендикса, и всё будет в порядке. Меня привезли в белую комнату, в самый её центр, положили под хирургическую лампу и ввели наркоз. Из наркоза я уже не вышел. Неадекватная реакция на анестезию. Сказали - бывает...
- Как он? Всё так же, да?.. Ну конечно да, наверное... Ведь два года. Вы знаете, я до сих пор себя виню... Я устала винить вас, я теперь виню только себя. Против себя у меня нет отговорок. Пётр Сергеевич опять сказал, что они ни в чём не виноваты, что анестезиолог всё правильно рассчитал, и что он сам прооперировал осложнение на руке, и теперь всё в порядке, кости срослись. Он так и говорит, он постоянно говорит: "Что вы волнуетесь, ведь всё в порядке?" Спасибо большое... Всё в порядке... Сначала я злилась. Сначала я думала, что он издевается, но теперь, нет-нет, теперь да, теперь я уже привыкла, теперь уже всё. Да-да, н-нет, ничего, я не плачу. Можно к нему? Это моя жена. Я слышу её голос ещё из коридора. Я слышу её шаги, я слышу, как она проходит по палате и садится на стул рядом со мной, и плачет. Она берёт меня за руку. Её рука чуть влажная и дрожит от волнения и от слёз. Я слышу, как она с надеждой смотрит в мои ледяные распахнутые страшные глаза, в которых издевательски отражается свет от лампочки. Она плачет, совсем неслышно всхлипывает. Она не хочет расстраивать меня своими слезами, она верит, что я всё слышу. И всё понимаю. Она с минуту смотрит на меня, на моё ужасное осунувшееся лицо, на мои синие мешки под глазами, на мои выпячивающиеся скулы и на раздувшиеся гланды, затем наклоняется к моему уху, будто хочет что-то сказать, я даже слышу, как она открывает рот, но не произносит ни звука. Я всё понимаю и без слов. - Сестра! - вдруг испуганно и надрывно кричит кто-то, - Сестра, скорей, сестра! Сюда, быстрей! Прибегает сестра, бормочет что-то невнятное и уходит, всплеснув руками. Неужели тот дед, мучавшийся сегодня всю ночь, всё-таки умер? Он стонал и хрипел три дня кряду, а ночью был совсем плох. Сейчас придут санитары и унесут его. Когда-нибудь они так же унесут и меня. Однако пока ещё я лежу здесь, с пугающим замороженым взглядом на бледном лице, как будто испугавшийся чего-то нарисованного на потолке, лежу и не двигаюсь, лежу и не знаю жив я или нет, как будто санитары несут и несут меня на носилках по длинному коридору, и я слышу, - именно слышу - что сзади меня - темнота, а впереди, далеко впереди, за десятки лет и за тысячи километров есть свет, есть яркая застывшая в воздухе вспышка, а санитары держат носилки за ручки и шагают, шагают, но вдруг я понимаю, что они шагают на месте, что они не двигаются ни вперёд ни назад, а я лежу на носилках с открытым ртом и смотрю на свет впереди, и понимаю, что тот маленький шевелящийся комочек у меня в груди имеет имя. И имя его - Надежда. |
проголосовавшие
комментарии к тексту: