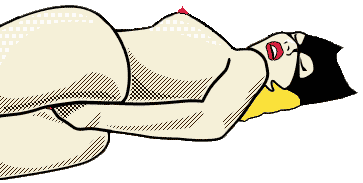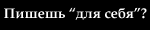Обречённость была со мной с самого начала. И даже будучи настолько маленькой, что окружающий мир воспринимался мной лишь хаотичным звуковым потоком с разноцветными пятнами расплывчатых образов, я чувствовала это. Те образы были туманны и вялы, порой стремительны; они наполняли собой всю плотность. Постепенно дымка спадала с них, дрожание наполнялось смыслом, они собирались в конкретность. Они становились стенами, окнами, столами и стульями, какие-то – деревьями и скамейками, какие-то небом. Один из них стал моей мамой. Я была единственной у неё. А она – единственной у самой себя. Где был наш папа я не знала: мама говорила мне, что его не было вовсе. Она просто очень захотела, чтобы я появилась, и я появилась – так объясняла она моё явление в мир. «Для чего нам с тобой папа, доченька? – спрашивала она меня. – Разве не хорошо нам вдвоём?» Нам было хорошо – так говорила мама, так внушала она – так было действительно, значит. Внушение это, однако, покоилось на непрочном фундаменте – порой она говорила иное. Что папа, де, неплох вообще-то, любить если нас будет, что с ним спокойнее. Меня дивили эти речи, а как-то раз я была и вовсе ошарашена. Грустная в тот вечер, мающаяся, мама сообщила мне сдавленным шёпотом: «Может быть я найду тебе папу когда-нибудь…» Она смотрела в пустоту, глаза её увлажнились. Я прижалась к ней тогда, напуганная, и дрожащим голосом пробормотала: «Не надо, мам… Пожалуйста…» Она отдавала меня соседке-старухе, уходя на весь день на работу. У старухи было страшно: она усаживала меня на кровать, давала в руки какие-то ветхие, поломанные игрушки или же книги без обложек, а сама бродила по комнате из одного угла в другой, бормоча что-то себе под нос. Зловеще улыбаясь, она исподлобья посматривала на меня и мне чудилось: сейчас она сделает со мной что-то нехорошее. К ней приходил её сын – большой, усатый дядька с протезом вместо правой руки. Иногда он отстёгивал свою пластиковую руку и посмеивался над тем, какой эффект производило это действие на меня – я замирала от ужаса и сердечко моё уносилось в пятки. Обычно он приходил пьяным, если же был трезв – напивался у старухи, часто с друзьями. Они смотрели на меня, забившуюся в угол, и протягивали грязными руками свалявшиеся конфеты в блёклой обёртке. Я испуганно хватала их и сразу же запихивала в рот. Безрукий дядька орал хриплым голосом мрачные, тягучие песни. Друзья ему вторили, подтягивала и старуха. «Вот подрастёшь, - сказал он мне однажды, - женюсь на тебе». Чуть повзрослев, я стала дожидаться маму одна, в пустой квартире: я была рада, что она наконец-то разрешила мне это. Я садилась на пол, на кровать – как было удобнее – и, глядя в окно, ожидала наступления сумерек. Солнце меркло, гасило свои лучи и уступало власть тьме. В квартире становилось сумрачно, тихо, пустынно: боясь пошевелиться, я прислушивалась к тишине. Свет не включала я: во всём этом была тайна, яркость и конкретность убили бы её. Вглядываясь в игру теней, я улавливала причудливые проявления потусторонней жизни, прорывавшейся сквозь толщу пространства и времени чарующими видениями. Я ощущала присутствие диковинных существ, прятавшихся за занавесками. Они звали меня, манили, порой я поддавалась их уговорам, закрывала глаза и уносилась во что-то трепетное, загадочное, наполненное музыкой. Стены квартиры исчезали вдруг, потолок раздвигал свои плиты, а пол пузырился – то была клокочущая лава, разливавшаяся по склону горы. Обгоревшая, задыхающаяся, кувыркалась я по камням, спасаясь от преследовавших меня клоупсов – чёрные и страшные, они хотели поймать меня и, умертвив, водрузить на вершину горы – символом ничтожности всего живого. Я же замирала вдруг, шептала заклинание и спасалась: тело моё пробивалось ростками неведомого растения и вскоре тугое, сочное, прорезалось оно сквозь кожу и, распускаясь, сплетало ветви, образуя густой и непроницаемый кокон. Он покрывал меня всю: оказавшись внутри, я начинала плавиться, растекаться и превращалась в вязкую, однородную массу. Она твердела, потом начинала крошиться и разрушаться – я становилась кучей пыли. Налетевший ураган отрывал меня от земли и развеивал – мельчайшие частицы, незримо кружась в пространстве, плавно оседали в океан. Мама моя была скромной, совсем некрасивой и пугливой женщиной. Она учила меня вязать, вышивать и рисовать. Сама она рисовала очень неплохо и даже грустила порой, что не развила в себе этот талант в полной мере. Но ни рисование, ни вязание и ни вышивание не привлекали меня; гораздо приятнее было просто молчать, молчать и слушать – шум ли, безмолвие – слушать лишь. Мама же грусть свою – она бывала частой её гостью – пыталась заглушить делами: выходило у неё это неважно. Изредка к ней приходили мужчины. Она ищет мне папу, понимала я, но лишь злилась на это. Мама становилась тогда страшно нервной и начинала заикаться, глупо при этом улыбаясь. Одному мужчине я дала однажды пощёчину: он рассказывал маме что-то весёлое, она смеялась, мне же стало вдруг омерзительно отчего-то: к горлу подкатил ком, заколотилось сердце – я вышла из своего угла и, подойдя к столу, за которым они сидели, влепила ладошкой по щеке тому весельчаку. Влепила и тут же убежала в ванную, где закрывшись, разразилась плачем. Мама, сама уже рыдая, долго потом колотила в дверь, умоляя меня открыть. Я открыла наконец – она кинулась ко мне, обняла и долго-долго целовала. Дядьку того она прогнала. Она старилась на глазах. Старилась и становилась всё чуднее. Взгляд её стал отрешённым, но и затравленным каким-то, слова, срывавшиеся с губ, всё беспредметней, да и сама сущность её источала теперь, казалось, одну лишь скорбь. Она боялась всего: грозы, шорохов в подъезде, своих собственных мыслей. От боязни этой она всегда клала спать меня вместе с собой. Мы разговаривали, точнее говорила почти всегда только она – я лишь издавала звуки, выражавшие сочувствие, возмущение, печаль – в зависимости от её повествований. Она изливала мне всю свою душу – я была единственной, кому она могла поведать всё. Откровения её впечатление на меня производили гнетущее: жизнь её представлялась мне бесконечно несчастной. Настолько несчастной, что даже самого крохотного, самого бледного лучика не находила я в ней. Иногда она молчала, лишь гладила меня по голове, и по блестящим дорожкам лунного света на её лице я понимала – она плачет. Я плакала вместе с ней тогда: видя это, мама нервно успокаивала меня. Из желания угодить я пыталась сдерживаться, но засыпала всегда расстроенной. Сон мой был тяжёлым, липким каким-то, а сновидения, являвшиеся в те часы, всегда бывали кошмарными – многие из них продолжались из ночи в ночь, как многосерийные фильмы. Непреодолимый страх выработался у меня перед сном: я боялась приближения ночного времени, боялась ложиться спать. Но маму я любила всё же. Одно из первых моих посланий к возлюбленному было таким: «Я не люблю тебя, я никогда не любила тебя, никогда не полюблю. Ты всегда был лишь моей Надеждой – умирающей, воскресающей, умирающей опять. Быть может – это закон, предел для разума: любить лишь Надежду, а не воплощение её. Надежда чиста, хрустальна и крылата: лишь Надежду хочу любить я…» И всё же я хотела его, я хотела тебя. Хотела… И ещё хотела ребёнка. Они становились для меня чем-то единым: ребёнок мой и мой возлюбленный. Вот он обнимал меня, могучий, сильный, я дрожала, сжатая его цепкими руками, я трепетала, приближая своё лицо к нему, он впивался в меня ненасытным ртом – я задыхалась, я умирала: он высасывал из меня мою робость, мой страх, вливая в артерии силы и страсть. Страсть силы. Я обезумела, глаза мои горели, губы же приходили в движение, отвечая на настойчивость встречных губ. Миг ускользал – я тяжко мучилась, рождая на свет того, кого так любила, к кому так стремилась – он был здесь, во мне, он стал уже им, этим рождающимся существом. Роды были ужасны, боль адской, я кричала и плакала: старухи-шаманки держали меня за плечи и брызгали в лицо холодной водой, когда я теряла сознание. Он появлялся всё же, мой мальчик, моя любовь… Иногда, лишь иногда, когда свет определённым образом падает тебе на лицо, а взор устремлён куда-то вдаль, в неизвестность, в прищуре твоих глаз и прямой линии сжатых губ видится что-то, что совпадает с тем образом, что являлся мне тогда, в те жгучие часы мечтаний. Постоянство надежд не всегда наполняло собой пространство. Небо мрачнело порой, земля становилась пепельной и клоупсы настигали меня, коварные. Они были жестоки, они мучили меня. Привязав к стволу дерева, тонкими стилетами они делали надрезы на моём теле. Они делали их особым узором и делали тщательно: с каждым прикосновением холодной стали глухой стон вырывался из груди моей – эхо неслось над ущельем и терялось где-то за чёрными выступами скал. Змеиное шипение дрожало в воздухе – змеи, они вились клубками повсюду, и у моих ног. Волосы мои, колыхаемые ветром, застилали взор, но в просветы созерцала я ту неистовую ненависть, что пылала угольками глаз на мордах тех мохнатых существ… Мама отняла тогда у меня нож, вопя и причитая. Она вызвала «скорую», а до её приезда пыталась перевязать меня. Всё валилось у неё из рук. Она захлёбывалась в слезах, пыталась сказать что-то – голос её сбивался на хрип. Я же кротко улыбалась, лёжа на кровати: мои раны веселили меня. Я тихо смеялась, глядя на маму, - какой дурочкой была она всё же! Я поражалась ей постоянно. Ей, да и всем людям, что видела вокруг. Они воспринимались мной не взаправду – и даже мама, даже она – не как реальное, сущее, как миражи может. Они плыли по воздуху – бледные фантомы, жалкие видения – они были уродливы. Я ужасалась их шевелящимся щупальцам, их ненасытным экранам, что высасывали первичное из моих глубин. Я боялась их всегда, и даже мамы своей боялась я – то поняла я как-то ненароком; я отказывалась верить в моё сходство с ними. Отражение? Отражение в зеркале? Это то, что скрывало мою непохожесть, что позволяло существовать здесь, пройти весь путь. Оно от дурных глаз, от дерзких мыслей. Я была такой одной в целом свете, только я, я скрывала себя под маской, ибо была лучиста и горяча, я пылала жаром. А остальные люди – в них нет жара, в них нет белизны. Если вскрыть их оболочки – внутри не будет ничего, абсолютно ничего, лишь гулкая пустота, что безжизненна и нетленна – нетленна, ибо не сущая, не реальная. Они проходили мимо, совсем рядом, они говорили порой что-то: между нами была преграда – они суть порождение мёртвого, я – порождение живого. Они не чувствуют боли зато. Иногда я становилась зловещей, я мечтала вот о чём: я отрезаю им головы, людям, им всем, до единого. Я – Смерть, я стою с косой: они проплывают мимо, я замахиваюсь, я напрягаюсь – я перерубаю их твёрдые шеи. Я хватаю головы за волосы – они равнодушны, они смотрят в пустоту, как и прежде – я кидаю их в кучу. Тела же двигаются дальше, размеренно, степенно… Один раз я представила, что отрезала головы всем, всем до последнего человека. Я сидела одна потом на Земле – она стала маленькой вдруг – было темно, курган был велик, мне было радостно. Ещё одно послание к тебе: «Для меня ты и вовсе кажешься нематериальным. Да, я знаю твоё лицо, я знаю твоё тело, но всё это не истинно, лживо. Я не могу, воспринимая эти формы, думать, что это и есть ты. Они слишком невзрачны и не дают представления о твоей действительности. Это словно ненужный довесок к твоей истинной сущности, что возможно осознать лишь глубинными, неразгаданными чувствами. За то время, что мы вместе, я так прониклась тобой, что иногда кажется, будто ты стал каким-то моим органом, настолько важным, что удали его – и я умру. Я чувствую тебя сердцем, и даже если глаза мои ослепнут и не смогут видеть тебя, если уши мои оглохнут и не смогут слышать тебя, если язык мой будет вырван и не сможет ощутить вкус твоего тела, а нос, отказав, - букет твоих запахов, тот сгусток тепла, что являешь ты собой, всегда укажет мне дорогу к тебе. На каком бы расстоянии ты от меня не находился, какую бы форму существования не принял, я всё равно обнаружу тот состав атомов, что является законом твоего бытия. И будучи полевым цветком, потянусь к твоим ладоням, добровольно давая себя сорвать; воплощаясь в горной серне, я откроюсь тебе из-за скал и, застыв в полёте, упаду затем замертво к твоим ногам, сражённая коварной стрелой, что пошлёт твоя беспощадная рука. Если бы я была планетой, а ты – звездой, я сорвалась бы со своей орбиты и, врезавшись в твою раскалённую плоть, совокупилась бы с тобой вселенской любовью, рождая сверхновую – безумную вспышку наших чувств. А сейчас, будучи женщиной, я тихо склоняюсь к твоей груди и, замирая, наслаждаюсь той печальной тишиной, что будто кокон пряча нас от мира, является воздухом нашей любви. Я достаточно жестока, я достаточно безумна, чтобы суметь порвать нить нашей пуповины, но порвать лишь в мечтах, на деле… я слаба на деле. В этом и облегчение: вся тяжесть, вся мерзость, вся гадость – она остаётся в глубине, как мысли, как желания. Остаётся, перемалывается, забывается, но и живёт, но и продолжает являть свои образы. Я имею сноровку, у меня есть опыт: я воспринимаю их как страшные сны, как глупые кинофильмы. А в реальность, в царство деяний они не выносятся, я бессильна в этом царстве. Я – по течению его извилистости, я – по дыханию его бездушности. Я бездеятельна и равнодушна почти. Фантазия рождена, мне нечего отрицать, но рождена не здесь – по ту сторону правильности. Здесь же, в деяниях, она не будет являться. Ярость, напор – они так близки, но близка и вялость, близка и лень, близка отрешённость. Когда смешиваются струи, они становятся одной, массивной и могучей. Так и с ветрами, но ветра безумней, они сливаются редко. Пар от земли – она пылает, внутри, внутри самой себя. Я тоже так, присмотрись – если долго, если пристально – увидишь дым. Он лёгок, он летуч, он есть всё же… А счастье представляется наполненным светом, я слышала об этом раньше – оттого, наверное. В нём солнце и ветер, и лес, что шумит, и птицы, что поют, в нём река и небо, в нём улыбки и смех – боже, как я глупа, однако! Сущность не такова. И между крайностями есть середина – так подавалось мне – она-то и чертит линию; те, остальные, лишь оставляют вмятины. Я поняла, впрочем: середина – это то, что противостоит светлому, это тёмное. Воображается ещё чёрное – оно излишне, ведь и тёмного достаточно. А сущность проста». В больнице врачи относились ко мне неплохо. Они даже казались добрыми. Они садились передо мной на корточки и, заглядывая в глаза, спрашивали: «Ну, как у нас дела сегодня?» Они спрашивали так каждый день, а порой и по два раза за день. Ещё они любили гладить меня по голове, по лысой моей голове – меня побрили наголо к тому времени. Наверное, это было приятно – ощущать ладонью гладкую поверхность черепа. Я никогда не отвечала им, лишь смотрела пристально-пристально и улыбалась. Улыбалась и безмолвствовала. Я представляла себя бегущей по глазам. Толстый слой их покрывал всё вокруг. Не было ничего, кроме глаз этих: ни деревьев, ни трав, ни озёр и ни рек, и ни гор – бесконечные поля глаз, во все стороны, в безбрежность во всю. Я бежала по ним и смеялась – мне было весело, я хохотала даже. Я нагибалась, собирала глаза горстями и подбрасывала вверх: они вертелись, искрились на солнце, потом тяжело, с глухим звуком, падали вниз. Они лопались под моими ступнями – я тяжела была всё же, они – хрупки и малы. Там, где ступала я, там оставались следы – растекающиеся овалы слизи – следы уходили к горизонту, я бежала оттуда. Я падала на них, ныряла в их сыпучесть, зарывалась в их гладкость – они скользили по коже, я сжимала ладони, я подгибала ноги, я сворачивалась в клубок. Я бежала по ним голой, вся в слизи, она блестела на мне. Солнце высоко было. Мама приходила ко мне регулярно, такая скорбная, такая озабоченная – она вся серая была от озабоченности. Она приносила мне апельсины и лимонад и, глотая слёзы, смотрела на то, как я жевала фрукты. «Не ешь всё-то, - говорила она, - оставь, не ешь. В палате скушаешь». Она тоже гладила меня по голове. Ещё прижимала к себе и целовала, как раз туда же, в лысый череп. Мы сидели с ней какое-то время, потом она уходила. И уходя, каждый раз ревела… Из больницы меня потом выписали, мама забрала дочку домой. Для меня событие это было радостным: теперь я снова могла быть наедине с самим собой. Сутки напролёт я просиживала в кресле, как и прежде; мои старые друзья вновь являлись мне – я встречала их приветливо. Приходя с работы, мама давала мне лекарства, потом вела на кухню и кормила. Иногда я ела и сама – я могла. Мама же казалась мне совсем старенькой уже. Она больше не брала меня спать к себе и почти совсем не разговаривала. Она говорила сама с собой. Слов я не разбирала, но монологи её были экспрессивны и нервны. Порой я замечала, как она бросала на меня пугливые взгляды – я улыбалась ей тогда уголками губ. Иногда я садилась к ней на колени, обвивала руками шею, прижималась щекой к груди – мама как-то сжималась вся, по коже её, чувствовала я, пробегала холодная волна, она смотрела чудно тогда. Круглые сутки в квартире нашей царила тишина, прорываемая изредка мамиными бормотаниями, да и совсем уж редко – приглушёнными звуками работающего телевизора, что включала иногда она. И ещё послание к тебе – вот оно: «Я рожу нашего ребёнка, нашего сына, конечно сына, детей больше не будет у нас. Мы станем жить втроём – тихо, степенно, сын наш будет расти вместе с движением лет. Оно стремительно, движение это, мы не успеем не понять ни пылинки с его поступи. Молодость сменится зрелостью, зрелость старостью, быстротечная старость – смертью. Нас похоронят рядом: твоя могила, моя – два бурых холмика за чугунной решёткой, два надгробия с пожелтевшими фотографиями и облупившейся краской. Представь: осень, свинцовое небо, ветер, заметающий в хороводы листья – мы лежим в земле, нам спокойно и хорошо. Она тягостна здесь, грусть, она родственница смерти, она зовёт за собой. Но там, там она прелестна, она там – как воздух здешний, как душа Природы, мёртвой Природы, а Природа мертва, потому что вечна. Нам кажется живой однако… Сын наш будет приходить на могилки, раз в год наверное, чаще не получится. Вместе с женой, вместе с детьми. Лопаточкой он заботливо поправит оседающие холмики, супруга его положит живые цветы, и зря – так быстро сохнут они и шелуха лишь остаётся. Дети же устроят беготню, родители одёрнут их, они станут проситься домой тогда – неуютно и страшновато станет им на кладбище. Сын наш тоже умрёт потом, мы все потом умираем; его похоронят не с нами и даже не на кладбище нашем: смерть настигнет его где-то далеко, от наших мест далеко, в другом городе каком-то. Потом умрут и его дети, и дети его детей… Солнце будет остывать постепенно. Оно потухнет – тихо, печально; последние люди, и животные, и растения прилягут на холодную землю и заснут сном вечности. Земля осыплется потом, разложится в пыль, в пыль, она будет кружиться по Вселенной – обречённостью, тщетностью. Повсюду будет тишина и незыблемость. Тишина и незыблемость. Незыблемость и тишина…» Жизнь осуществляется вопреки желаниям и мудрствованиям – увы. Жизнь – это лишь слово: оно является сущим лишь для тех, кому кажется явью. Извне её хочется назвать иначе – фантазией, к примеру. Я умерла тихо, ночью, во сне. Утром мама страшно перепугалась: несмотря на то, что она ждала этого несколько долгих лет, ждала с содроганием, с ужасом, но и с нетерпением – она боялась признаться себе в этом – смерть моя была облегчением всё же. Она знала: это будет шоком для неё, шоком это и было, но лучше шок, а за ним освобождение от бремени, чем постоянное, невыносимое страдание. Поначалу с ней случился припадок: она каталась по полу, билась головой обо всё, что встречалось на пути, рыдала и вопила ужасающе и мерзко. Потом пришла в себя, сходила к соседям. Часы шли за часами, события, казалось, стали развиваться сами по себе: меня стали готовить к погребению. Сначала меня омыли: безобразные старухи водили губками по телу и негромко переговаривались. Тельце моё было худеньким и тщедушным – старухи качали головами и жалели меня. Затем меня одели в белый саван, подвязали голову платком и положили в гроб, который принёс маленький, облезлый плотник. Он был мастером своего дела: гроб был удобен, ровен, красив даже, его обили красной материей, и чёрной косой крест красовался на крышке. По углам его зажгли свечи, а одну поставили у меня в руках – воск оплавлялся и ручейками сбегал к пальцам. Мама была одета в чёрное, и другие женщины в чёрных одеяниях – они тоже были там. Все разговаривали шёпотом и с тихим ужасом взирали на меня. Я действительно внушала ужас: я была ребёнком ещё, но смерть превратила меня в старуху. Маленькая, сморщенная старушка с впалыми щеками, кроткой улыбкой чёрных губ и не закрывавшимися веками, отчего взгляд мой будоражил каждого из присутствующих – они ёжились под ним. Настал день похорон – он был солнечным и тёплым. Гроб подняли на плечи четверо мужчин и вынесли на улицу. Меня довезли на машине до кладбища и, сгрузив там, дотащили до ямы – она была глубока и симметрична. Мама стала прощаться со мной: прощание было недолгим – она поцеловала меня в лобик и зарыдала тут же. С ней опять случилась истерика: упав вдруг на землю, она вцепилась в стенки гроба и срывающимся голосом закричала: «Доченька моя! До-чень-ка род-на-я! До-чень-ка!!!» Её оттащили от гроба; мужчины тотчас же накрыли его крышкой и забили гвозди. На верёвках ящик опустили в могилу, все кинули в неё по горсти земли и кое-кто при этом прослезился. Потом яму быстро закидали коричневым влажноватым грунтом. Мама перестала неистовствовать и, совершенно вдруг успокоившись, стала вытирать платочком глаза. Холм подровняли, землю разрыхлили, поставили металлическое надгробие: оно было без фотографии – мама не нашла ни одной подходящей. Постояв безмолвно и скорбно, все направились к автобусу. Дальше были поминки и удивительно хорошо проходили они – все почувствовали облегчение. Тризна продолжалась до ночи. Я свободна теперь, волшебна. Я нашла свою ипостась, свою форму. Я вокруг тебя, любимый. Я прикасаюсь к тебе дуновением ветра, я орошаю тебя каплями дождя, я вливаю в тебя силу свою, я проникаю в тебя свежим воздухом, ветром. Я мертва, как Природа, я стала ей самой – Природой, я стала Смертью. Я – везде и повсюду, я – всё и вся. И я люблю тебя. |
проголосовавшие
| Упырь Лихой | Артем Явас |
всего выбрано: 29
вы видите 14 ...29 (2 страниц)
в прошлое
комментарии к тексту:
всего выбрано: 29
вы видите 14 ...29 (2 страниц)
в прошлое